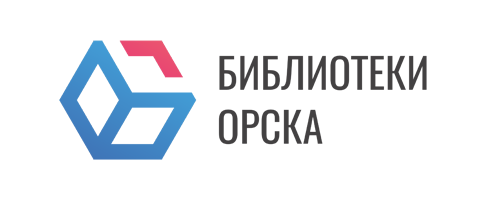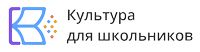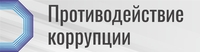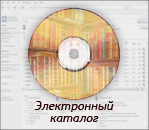Советуем почитать
Советуем почитать
На границе человека и истории
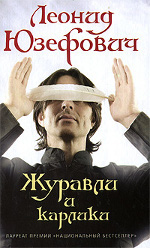 Владимир. Выходит, это не самое страшное.
Владимир. Выходит, это не самое страшное.
Эстрагон. Что?
Владимир. Думать о чем-то конкретном.
С. Беккет. В ожидании Годо
Необычность нового романа Л. Юзефовича бросается в глаза. Писатель, известный произведениями на историческую тему — будь то ретродетективы про сыщика Ивана Путилина или повесть “Казароза”, документальная книга “Самодержец пустыни” или сценарий сериала “Гибель империи”, — впервые, кажется, обращается к современности. Созданная им картина недавнего прошлого оказалась столь неожиданно пристальной, что впору говорить о том, что начало российских 1990-х впервые — наконец-то — оказалось предметом эпического изображения, “зарифмованного” с образами других стран и эпох.
В романе — три основных героя и связанных с ними хронотопа. В Москве 1993 года обаятельный пройдоха Жохов, настоящий пикаро и трикстер (его ближайший родственник в новой российской литературе — пожалуй, Евграф Мальчик из “Американской дырки” П. Крусанова; прямым прототипом этого персонажа, по собственному признанию Крусанова, стал Сергей Курехин), пытается сколотить состояние, попутно скрывается от кредиторов-кавказцев в России и Монголии и крутит на зимней даче роман с живущей там Катей. Его приятель историк Шубин2, интеллигент, оставшийся не у дел и обреченный по логике истории чуть ли не на вымирание, пишет в те дни для каких-то подозрительных журналов историю про самозванца Тимофея Анкудинова, а в наши дни путешествует по любимой Юзефовичем и неоднократно им описанной Монголии. Авантюрист и поэт Тимофей Анкудинов, выдававший себя за царевича Ивана Васильевича, сына Василия Шуйского (реальное историческое лицо), где только не побывал — у казаков, у турок, при многих европейских дворах, — меняя личины и ведя двойную, а то и тройную игру.
Постоянное бегство и череда превращений как Жохова, так и Анкудинова выдают в них “принадлежность к классу” трикстеров. “...Мастер превращений... может принять любой образ, какой только ему захочется, будь то образ зверя, духа животного или духа умершего. <…>. Его власть основана на бесчисленных, доступных ему превращениях. Он поражает исчезновениями, нападает неожиданно, позволяет схватить себя, но так, что исчезает снова. Важнейшее средство исполнения им его удивительных деяний — все то же превращение”3, — писал Элиас Канетти. Однако “трикстерство” двух героев Юзефовича — разной природы: если Анкудинов — пикаро, так сказать, изначальный, то Жохов, скорее всего, пройдоха поневоле, просто научившийся (“жизнь заставила”) крутиться и ловчить, что, замечу, получается у него не так уж хорошо: большинство его афер прогорает.
(Кроме того, одно из “ответвлений” сюжета разворачивается в Забайкалье времен Гражданской войны: легенды о том, как там прятали царское золото и похищали якобы скрывшегося царевича Алексея, странным образом не оставляют героев и в наши дни, “всплывая” то в виде передаваемых устно свидетельств очевидцев, то в виде некоторых архивных находок, то попросту “флешбэков”…)
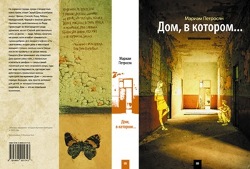 «Дом, в котором…» — очень большая книга. Не в смысле количества страниц, исторического значения или продолжительности написания. А по-другому — как если приходишь в новую школу посреди учебного года и пытаешься влезть во все это, сообразить, куда ты попал. Что вокруг? Кто с кем дружит, какие тут учителя, сколько здесь будет дважды два?
«Дом, в котором…» — очень большая книга. Не в смысле количества страниц, исторического значения или продолжительности написания. А по-другому — как если приходишь в новую школу посреди учебного года и пытаешься влезть во все это, сообразить, куда ты попал. Что вокруг? Кто с кем дружит, какие тут учителя, сколько здесь будет дважды два?Четыре получается не сразу, если вообще когда-нибудь получается. Весь этот большой, чужой, настороженный мир нападает одновременно со всех сторон, и читатель «Дома, в котором...» быстро вспоминает ощущения новичка у доски. В книге тоже есть такой новичок — персонаж по прозвищу Курильщик, семнадцатилетний парень, попавший в выпускной класс закрытой школы-интерната.
Для детей-инвалидов да, но это не книга о детях-инвалидах. Правильнее было бы сказать — «дети со специальными потребностями», а еще лучше — «со специальными возможностями». Отсутствие ног, рук или зрения для обитателей школы-интерната (или, как называют его учащиеся, Дома) — это что-то вроде аллергии или дальтонизма. Вы же не будете есть мед, если у вас на него аллергия? А Слепой не возьмется читать книжку. А безрукий Кузнечик будет драться только ногами. А колясник Лорд никогда не сможет бегать, зато ползает так, что за ним не угонишься. После этой книги политкорректное «инвалиды — такие же люди, как все остальные» выглядит полным идиотизмом. Во-первых, попробуйте сказать: «Люди — такие же люди, как все остальные». Во-вторых, одинаковых людей не бывает.
Дом напоминает интернат для Людей Икс, а не для несчастных калек. Кто-то из воспитанников школы умеет видеть чужие сны, кто-то творит чудеса, кто-то «перепрыгивает» в особое место, параллельный мир, в то время как в привычной реальности его телесная оболочка лежит в больничном отсеке. И сам Дом — живое, безжалостное существо, устанавливающее свои правила, не любящее отпускать «своих» во внешний мир. Настолько, что выпускной год (он случается раз в семь лет) всегда оказывается самым трудным, отмеченным многими смертями и страданиями. Все, что за пределами Дома, «наружность» — безжизненное, порой опасное место. Иногда легче считать, что ее нет вообще.Мариам Петросян писала этот роман более десяти лет. Может быть, поэтому он такой сумбурный и взъерошенный. Она не писатель, а художник-мультипликатор. Может быть, поэтому роман кажется настолько разноцветным и живым: здесь соблюдается не литературная стройность композиции, а скорее театральная. Единство места, множественность масок. Под последней (первой) маской — настоящее лицо, провал в глубокую древность, чистую фантазию.
«Дом» сложно устроен — его рассказывают несколько человек, и про каждого читатель знает недостаточно. Ребенок, подросток, другой подросток, учитель. Иногда рассказ ведется от первого лица, как в дневнике шакала Табаки. Иногда нет. Бывает, что речь идет о предыдущем выпускном классе, когда нынешние «старшие» были совсем детьми. Иногда кто-то рассказывает сказку или притчу. Или сон. События приходится восстанавливать по обрывкам фраз, по чужим воспоминаниям, по граффити на стенах Дома.
Ксения Рождественская
Источник: http://www.openspace.ru/literature/events/details/13435/
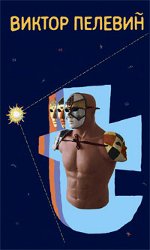 Виктор Пелевин написал роман о читателях и писателях. Ни тех ни других на самом деле не существует.
Виктор Пелевин написал роман о читателях и писателях. Ни тех ни других на самом деле не существует.Новый роман Пелевина вышел почти бесшумно. Просто лег на прилавки магазинов в день Х. Никаких незапланированных утечек текста, пресс-туров в типографию и экземпляров, подписанных самим автором. Никакого шума. Это не самоуверенность, это усталость. Она явственно проступает и в тексте, вроде бы энергичном, местами остроумном и все же невыносимо тяжелом для прочтения, отягощенном избытком никуда не ведущих аллюзий, обилием ребусов и затейливых, но по сути пустых философских диалогов о кажимостях, мнимостях и нереальности писательских выдумок. «Зачем это вообще читать?» — вопрос, который начинает преследовать с первых же страниц книги. И вероятность, что на этот раз даже самые страстные апологеты пелевинской прозы в ответ только растерянно разведут руками, высока как никогда. И возможно, даже они не доберутся до финала, застряв где-нибудь на рассуждении о том, что читателя надо искать в себе.
Граф Т. всеми силами стремится в Оптину пустынь. Что она такое, он, правда, не знает, как и никто вокруг. Графа преследуют молодчики из сыскного ведомства, но Т., мастер боевых искусств, сопротивляется профессионально. Окровавленные преследователи корчатся в кустах, а граф Железная Борода (в бороду вплетена проволока) шагает себе дальше. У Т. есть прототип — граф Толстой, в наследство от него Т. получает Ясную Поляну, название изобретенной им школы рукопашного боя «непротивление злу насилием», или «незнас», а также сходство с толстовскими героями.
Сахновский, Игорь Заговор ангелов [Текст]: роман / Игорь Сахновский.- М.: АСТ, Астрель, 2009.- 224с.
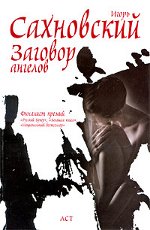 «Заговор ангелов» Игоря Сахновского демонстрирует превосходное владение искусством рассказа. Но его рассказы не соединяются в единое романное целое.
«Заговор ангелов» Игоря Сахновского демонстрирует превосходное владение искусством рассказа. Но его рассказы не соединяются в единое романное целое.По части языка-стиля Игорь Сахновский действительно волшебник и шармер. В его манере описывать пропыленные августовские листья, жару Аравийской пустыни, ослепительную зелень английских городков и воспаленные горизонты русской окраины присутствуют магия и магнетизм. Сахновский магнитит и влечет за собой. Еще и потому, что — и это другое достоинство его прозы — умеет рассказывать истории. Строить увлекательный сюжет. Это было понятно уже по роману «Человек, который знал все», это подтвердил и недавний сборник «Нелегальный рассказ о любви».
В «Заговоре ангелов» с историями тоже все в порядке. Одна из самых сильных — о том, как одиннадцатилетняя девочка Лида и ее маленькая сестра Розка (грудной младенец) отправились с мамой Бертой в эвакуацию и как Берта совершенно хрестоматийно отстала от эшелона, стоя в очереди за кипятком, но спустя двое суток, уже в нарушение всех канонов, взяла и вошла в вагон поезда, в котором ехали к неизбежной гибели ее дочки: «Она была вся черная, со сломанными ногтями, с жуткими мазутными пятнами на спине, но это была она — и она была живая».
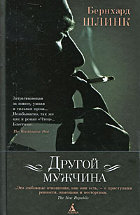 Пожалуй, выход именно этой книги Бернхарда Шлинка гораздо более значим для отечественного читателя, чем публикация на русском языке «Чтеца» и возможное издание «Возвращения» и «Конца недели». Именно сборник «Другой мужчина» дает возможность понять, что творчество Шлинка несколько шире, нежели бесконечные вариации на тему германского нацизма вкупе с неонацизмом и неизбывного чувства вины Германии перед окружающим миром. Спору нет, тема эта важная, значительная и не потерявшая, несмотря на обилие посвященных ей произведений, актуальности. Но, с другой стороны, «Другой мужчина» доказывает нам, что Шлинк —не только публицист, но и писатель. Хотя многие вещи в сборнике способны «обмануть» невнимательного или несведущего читателя.
Пожалуй, выход именно этой книги Бернхарда Шлинка гораздо более значим для отечественного читателя, чем публикация на русском языке «Чтеца» и возможное издание «Возвращения» и «Конца недели». Именно сборник «Другой мужчина» дает возможность понять, что творчество Шлинка несколько шире, нежели бесконечные вариации на тему германского нацизма вкупе с неонацизмом и неизбывного чувства вины Германии перед окружающим миром. Спору нет, тема эта важная, значительная и не потерявшая, несмотря на обилие посвященных ей произведений, актуальности. Но, с другой стороны, «Другой мужчина» доказывает нам, что Шлинк —не только публицист, но и писатель. Хотя многие вещи в сборнике способны «обмануть» невнимательного или несведущего читателя.Открывающая сборник «Девочка с ящеркой», казалось бы, снова посвящена «еврейскому вопросу», холокосту и иже с ними. Одноименная с рассказом картина, принадлежащая немецкой семье, появилась у них при неясных событиях, но мать героя отчего-то называет изображенную на ней (как явствует из названия) девочку не иначе как «евреечкой». Правда, со временем выясняется, что ее автор, некий Рене Дальман, был участником состоявшейся в 1937 году в Мюнхене выставки «Дегенеративное искусство» —что-то вроде нашей знаменитой истории с хрущевским Манежем. А отец героя служил в Страсбургском трибунале, но яростно отрицает, что «незаконно обогащался путем присвоения имущества лиц еврейской национальности». В общем на первый взгляд все вполне ожиданно. Неожиданным является тот аспект, что это служит лишь фоном для истории взросления, совмещенной с экскурсом в жизнь художественной богемы периода между двух войн. Что касается последнего, то Шлинк проявляет тихое чувство юмора «для посвященных». То упоминает, что любовницей и музой Дальмана была некая Лидия Дьяконова (в самом деле, как еще могут звать русскую подругу европейского сюрреалиста?). То говорит, что в журнал «Фиолетовая ящерица» («Выпускался в Париже с 1924 по 1930 год на переходе от дадаизма к сюрреализму, вышло десять номеров») наравне с Дальманом писали Магритт («эссе о живописи как мышлении»), Дали («о девушке, которую готов полоснуть бритвой по глазам») и Бекман («о коллективизме», в переводе с английского и без разрешения автора.) Именно подобные моменты и выдают нам Шлинка с головой не как простого радетеля за права человека, а как наследника европейской культуры, владеющего как «всей полнотой информации», так и литературными приемами своих предшественников и современников, включая, простите за выражение, постмодернистов.