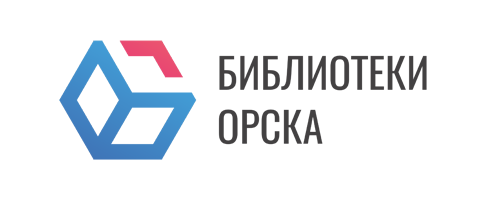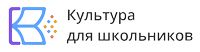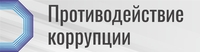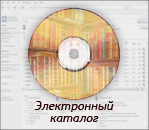Советуем почитать
Советуем почитать
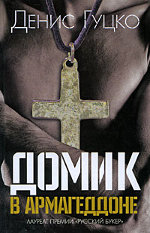 В новом романе «Домик в Армагеддоне» Денис Гуцко соединяет меч, крест, неграмотность и наивность.
В новом романе «Домик в Армагеддоне» Денис Гуцко соединяет меч, крест, неграмотность и наивность.Букеровскому лауреату деваться некуда: он по определению в лучах прожекторов. «Домик в Армагеддоне», новый роман Дениса Гуцко, неизбежно будет обсуждаться, но, очевидно, в мало приятных для писателя выражениях.
Премированный четыре года назад роман «Без пути-следа» воспроизводил типичный набор постколониальных проблем, которые и повергли в нокдаун главного героя, отлученного от российского гражданства. «Домик в Армагеддоне» — вроде бы о другом, но и здесь в центре герой растерянный, пытающийся нащупать опору и смысл жизни.
Именно для этого Ефим Бочкарев, 18-летний житель вымышленного Любореченска, и поступает во Владычный стяг — молодежную военную организацию, созданную для защиты православия. Фима и такие же, как он, мальчишки-«стяжники» съезжаются на сборы, тренируются, читают жития святых и мечтают о настоящем деле. Но Стяг внезапно закрывают: «церковный спецназ» властям отчего-то разнадобился.
Дочитав роман до конца, понимаешь: это не власти, это Денис Гуцко дрогнул, испугавшись собственного богатейшего по потенциалу замысла — написать жесткую антиутопию (вариант: притчу) про жизнь современных крестоносцев. А ведь мог бы получиться бестселлер почище оруэлловского. Однако, чтобы создавать несуществующий мир, нужно понимать и чувствовать материал, из которого лепишь. Про войну воевавший Денис Гуцко понимает многое, про православие, даже декоративно-националистическое, — совсем ничего. Отсюда нелепости и ошибки: к простому священнику в романе упорно обращаются как к епископу — «владыка»; используемое героями выражение «новый Армагеддон» — нонсенс; верующий Фима ни разу не вспоминает о Боге, а его рассуждения о «великой православной России» отдают такой пустотой, что странно, как его-то самого угораздило увлечься всей этой мертвечиной.
Так что неудивительно, что, рассказав о стяжниках на первых страницах романа, дальше Гуцко двинуться не рискнул, свернув на знакомую дорожку унылого реализма да скрупулезных описаний внутренней смуты Фимы. Кроме Фимы, живых героев здесь никого, сплошь функции — враг, соратник, провокатор, подруга, — и поступки их часто совершенно необъяснимы. Почему сводная Фимина сестра, Надя, буквально преследует брата — это что же, инцест? С какой стати отец героя бросает семью и оказывается в Православной сотне, таинственной организации, куда после Стяга попадает и Фима? И что это за Сотня? Секта? Община? Но ничего-то мы так и не узнаем, не поймем, кроме одного: вопрос «почему?», блуждая по «Домику», лучше не задавать.
И все же в сухой остаток кое-что выпадает. Это неизменно зорко отловленные детали, что-нибудь вроде «лунных клякс» на листьях фикуса и хрустящих гравием подошв, которые «будто откусывают от дороги», да точно диагностированное мутное брожение, глухое недовольство, скрытое в душах провинциальных мальчиков. В общем, если завтра рванет, Гуцко хотя бы запишут в пророки. В противном случае ему грозит лишь свист разочарованной публики.
Майя Кучерская
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/05/05/194174
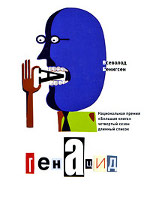 «ГенАцид» Всеволода Бенигсена — попытка современной сатиры. Скорее удачная, и все же не доведенная — не столько до ума, сколько до сердца.
«ГенАцид» Всеволода Бенигсена — попытка современной сатиры. Скорее удачная, и все же не доведенная — не столько до ума, сколько до сердца.Президент России издал указ — «О мерах по обеспечению безопасности российского литературного наследия». Каждый гражданин РФ обязан выучить отрывок из того самого литнаследия. В трехнедельный срок. К Новому году. «С последующим тестом на знание оного». А все ради объединения вокруг «общенациональной идеи». Отсюда и аббревиатура, ГЕНАЦИД — государственная единая национальная идея.
Молодой писатель, выпускник ГИТИСа Всеволод Бенигсен, сочинивший этот анекдот, рассказывает о прививке российской словесности русскому народу в отдельно взятой деревне Большие Ущеры. И поначалу читать о ходе эксперимента уморительно смешно. Смешно, когда косноязычный Гришка-плотник, на вопрос о семейном положении отвечающий: «Всяка лярва шныгу чумазит», начинает вдруг выкрикивать «дыр бул щил» Крученыха. Смешно, когда бабка Агафья, славящаяся варением самогона, опрокинув стопку, декламирует односельчанам «Кузмича» (угадайте, кто это): «Возьми, летун! Пронзи, летун! Могильник тлинный, живой ползун!» Забавно, когда большеущерцы придумывают алкогольно-литературную игру — первым выбывает тот, кто сбился в чтении своего текста.
ГенАцид и близкий экзамен, точно приезд ревизора, действительно ненадолго объединяет жителей. Пока не начинает разъединять — на тех, кому достались стихи, и тех, кому проза, тех, кому стихи традиционные, и кому новаторские… Смех постепенно мрачнеет, но все же примерно полкнижки веришь, что перед тобой — наконец-то! — настоящая современная сатира, каковой в нашей словесности острый дефицит. Однако уже сорванный было в честь автора чепчик бросить в воздух так и не успеваешь.
Во второй половине романа смех сквозь невидимые миру слезы стихает. Да и слезы высыхают тоже. Слишком уж все становится черно. У большеущерцев начинается тяжелая интоксикация. Пьяница Федор Подхомутников, перечитав Лескова, повреждается в уме и решает стать очарованным странником. Сергей Сериков, заразившись чеховской безнадежностью, сводит с жизнью счеты. Жителям остается найти крайнего… Бунт врывается на улицу Ленина бессмысленно и беспощадно.
В развязке, которой Бенигсен бьет читателя как обухом, присутствует странное преувеличение, никак не оправданное предыдущим ходом вещей. Но, может быть, все дело в беспредельности диапазона загадочной русской души? Если бы так. Никакой беспредельности, только два полюса с кровавым океаном между — таков итог «ГенАцида».
Тут-то и понимаешь, чем Бенигсен отличается от того же Гоголя или Салтыкова-Щедрина, которых то и дело окликает: ему недостает сострадания. Все выведенные в романе типажи, от умника библиотекаря до беженца-таджика, оказываются марионетками, это всего лишь лупоглазые пупетт, которых тем легче под конец замочить. Будь перед нами фарс, марионеточность героев и схематизм ходов можно было бы оправдать, но для фарса этому тексту недостает условности и бесшабашного веселья, в нем слишком много реалистичных сцен.
Словом, книге Бенигсена при всем ее остроумии не хватает художественной цельности и последней убедительности, такой, от которой разводишь руками и молчишь, потому что сказанное — правда. Пушкин не зря так легко делился с Гоголем анекдотами о ревизоре и мертвых душах — он хорошо знал: сам по себе анекдот — пустышка, заполнение паузы в table-talk. Чтобы обратить забавную историю в драму, поэму, в роман, наконец, нужно иметь за пазухой еще кой-чего. Да хотя бы сердце.
Майя Кучерская
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/06/25/201959
 Александр Кабаков написал первый в жизни исторический роман, но, похоже, не столько из любви к прошлому, сколько из растерянности перед настоящим
Александр Кабаков написал первый в жизни исторический роман, но, похоже, не столько из любви к прошлому, сколько из растерянности перед настоящимРоман Александра Кабакова «Беглецъ», через «ять» и с «ером» на конце, явственно окликающий давнишнего «Невозвращенца», — небольшая по объему и первоклассная по исполнению стилизация дневника московского банковского служащего за 1917 год. Дневник якобы достался по случаю нашему современнику, любителю антиквариата. Перед нами спокойная демонстрация мастерства — совершенно очевидно, что и газеты, и мемуары того времени прочитаны были писателем в избытке, однако поверхность текста безупречно гладка, никаких капелек исследовательского пота, никаких швов. Естественная интонация, ровное дыхание, точно отмеренная горечь. «Все снегу нет. А мороз заворачивает порядочный, погубит озимый хлеб, то-то будет нашим страдальцам за народ дел — примутся спасать голодных газетными статейками и спичами под бургундское на благотворительных балах».
Наш герой — тихий алкоголик и несчастный человек. Сумрачный дом в Малаховке, прислуга, молчаливые обеды с нелюбимой супругой, редкие и мучительные встречи с любовницей, поездки в московскую службу, расползающаяся по России тьма и распад, запиваемые ежедневным графинчиком под яблоко и папиросы. Ощущения и мысли господина Л-ва, как будто нарочно, усреднены, подчеркнуто тривиальны, обыкновенны для многих его собратьев по сословию и веку: сослуживцы пошлы, православие не греет, война бессмысленна. Хочется же лишь одного — «бежать от невозможной, опасной жизни как можно дальше и близких увести».
И хотя судьба Л-ва делает неожиданные зигзаги — герой начинает сотрудничать с большевиками, потом помогает им ограбить собственный банк, а затем, точно во искупление вины, пытается застрелить Ленина, — ему все равно не вырваться из собственной усредненности, которая, впрочем, в выстроенном Кабаковым мире никак не ущербность, а почти достоинство. Поскольку среднее может появиться лишь при наличии верха и низа, т. е. стабильности.
Нет ничего проще, чем увидеть параллели между жизнью тогдашних мелких буржуа и сегодняшнего среднего класса, тем более что и сам писатель подталкивает к этому читателя, поместив дневник Л-ва в раму современности. Но вот вопрос: что позволяет различить в сегодня призма ушедшей жизни? Отчего печальный кабаковский глаз смотрит на современность сквозь монокль прошлого? Ведь вряд ли «Беглецъ» всего лишь красивая утренняя разминка мастера. Гораздо больше похоже, что выбор эпохи и героя (отчасти, видимо, автобиографического) продиктован усложнившимися отношениями автора с нынешней реальностью, которая на наших глазах утратила последнюю стилевую цельность и переживает очевидный кризис стиля. Предшествующая «Беглецу» книга Кабакова «Московские сказки» ядовито и точно описывала Москву гламурную. Но вот и той Москвы уж нет, как и помянутой в начале «Беглеца» Москвы 1970-х, — как к ним ни относись, тем самым единством стиля обладавших.
В новой книге Александра Кабакова слышна растерянность перед стилевой разорванностью, раздерганностью дня сегодняшнего, растерянность, необыкновенно изящно выраженная, но такая глубокая, что ничего не остается, как бежать из сегодня прочь, да хотя бы и в неуютную Москву 1917 года.
Майя Кучерская
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/07/16/205312
 На русском языке появилась книга редкого жанра — семейная сага «Жили-были старик со старухой» Елены Катишонок. Отменно написанная и удивительно обаятельная.
На русском языке появилась книга редкого жанра — семейная сага «Жили-были старик со старухой» Елены Катишонок. Отменно написанная и удивительно обаятельная.Точно песню пропела Елена Катишонок — так написала свой первый роман. Мощно, весело, очень тепло. Семейная сага — жанр для отечественной словесности в последнее время экзотический. А Катишонок не испугалась ни входящей в правила игры медленности ритма, ни вызывающей несовременности жанра — и спокойно рассказала свое «жили-были». Причем выписала лица на этой старой семейной фотографии с таким юмором, умом и любовью, что каждый и правда смотрит на вас как живой.
Статная, властная, несгибаемая старуха Матрена, которая, впрочем, поначалу никакая и не старуха, а молодая жена «Григоримаксимыча», рачительная хозяйка, мастерица печь пироги и ревностная молитвенница из староверов. Сам Максимыч, тихо расправляющий ус под брань суровой супруги и делающий в своей мастерской туалетные столики и шкафы дивной прочности и красоты. Тут же и пятеро их детей, а также зятья, невестки, внуки. А вот и маленькая правнучка Лелька, родившаяся уже в 1950-е годы и, похоже, выросшая со временем в Елену Катишонок.
Старик и старуха обвенчались накануне смены XIX и XX века, затем перебрались из родного казачьего Ростова в «Остзейский край, к гостеприимному синему-синему морю», в большой прибалтийский город, впрочем ни разу не названный по имени. Пережили обе войны и приход советской власти, которая лишила старика мастерской и превратила его в тихого рыбака из пушкинской сказки — так Максимыч отчасти совпал со своим условным прототипом.
Семейные хроники — вещь жестокая, между свадьбами и рождениями пролегает беззвучная повседневность, мало привлекательная для повествователя. Елена Катишонок и с этим справилась — запечатлев лишь основные вехи, сквозь которые протекает жизнь Ивановых, а это помимо семейных событий, конечно, праздники.
«Вот неделя, другая проходит…» От седмицы к седмице, от Великого поста до Пасхи, от Троицы до Рождества. Этот мир с ясной иерархией, и потому никакие исторические катаклизмы не в силах потрясти устойчивость и целомудрие бытия его жителей. Несмотря на то что гул большой истории звучит тут вполне отчетливо — в описании старых вещей и ушедших деталей быта: хрупкого ангела в кисейных одеждах, «белья, сверкающего и мытьем, и катаньем», выходной жилетки старика, металлического карниза, похожего на корзину, в котором зимой лежат продукты, а летом растет герань.
Обо всем этом рассказано с интонацией необычайно личной. Ощущение от чтения этой книги такое, будто вошел с морозной ветреной улицы в хорошо натопленный дом. Так пишут только о самом родном. Но даже если допустить, что перед нами чистый вымысел — доля авторского внутреннего участия делает это повествование почти документальным. Елена Катишонок строит его не по законам романа, а по законам жизни, пренебрегая литературными условностями. Скажем, старик и старуха умирают от одной болезни, но эта симметрия выглядит здесь как данность, а не как прием или символическое указание на их внутреннюю общность. Впрочем, какое дело читателю, роман перед ним или документ — невероятное человеческое обаяние, безупречный язык и глубина этой книги делают ее выход светлым событием.
Майя Кучерская
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/07/27/206922
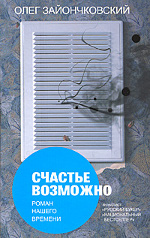 По щучьему велению
По щучьему велениюВ романе «Счастье возможно» Олег Зайончковский сделал Москву маленькой и уютной, а москвичей — добрыми соседями по городку.
Точно между затяжечками и выдуванием сизых колечек написанная проза. Неторопливая, расслабленная, увитая легким дымком необязательности. Хочешь — сиди и слушай, не хочешь — ступай. Никто на тебя не обидится. В мире Олега Зайончковского обид не существует. И это несмотря на то, что главному герою — странствующему из одной книги в другую рассказчику на этот раз предначертана роль несчастного мужа, брошенного женой.
После выхода сборника «Сергеев и городок» и романа «Петрович» Зайончковского уже окрестили писателем «посадским». Очень точно. О «растительной жизни» обитателей небольшого подмосковного городка Зайончковский рассказывал с большим вкусом и знанием дела.
В новой книге авторский альтер-эго, писатель, сослан в столицу. И хотя держится он молодцом, женится на коренной москвичке (она потом его бросит), ездит на метро и отлично ориентируется в московских переулках — в громадной, суетливой Москве ему явно неуютно. И чтобы покорить чуждое пространство, Зайончковский поступает просто: высвечивает в прихотливом московском ландшафте самые неурбанистические уголки — парк, похожий на рощу, двор, похожий на парк, детскую площадку, — а то и вовсе сбегает вместе с героем в подмосковную деревню Васьково.
Москвичи в его книжке тоже живут тесно: знакомые запросто сталкиваются друг с другом на улице и в метро, незнакомые оказываются соседями по подъезду или дому. А где им иначе познакомиться (чтобы завязалась история)? Только в лифте или на прогулке с собакой. Даже башня, в которую вселилась с новым избранником экс-жена писателя Тамара, отлично видна покинутому мужу из парка. Может быть, это не Москва, а все тот же городок?
Нет, все-таки это она, первопрестольная. Москва, которая требует широкой кисти, панорамного взгляда — видимо, поэтому «Счастье возможно» начинается как связный, текущий от главы к главе роман, но вскоре эта связность становится для рассказчика утомительна: слишком много у него историй, не имеющих отношения ни к нему самому, ни к его Тамаре. Впрочем, едва роман распадается на цепочку новелл — форма, освоенная Зайончковским еще в «Сергееве и городке», — все становится на свои места.
Из нехитрых жизненных историй — каждая в соответствии с названием книги доказывает возможность счастья — вырастает своя Швамбрания. Сказочная, уютная, смешная. Под лежачий камень здесь течет вода, сани едут сами, медсестра из провинциального медучилища встречает принца из столицы, одуревший от звука перфоратора сосед снизу помогает сделать ремонт соседу сверху, одинокая женщина встречает свою судьбу в собственном подъезде. Самые жуткие драмы неизменно пружинят о готовность писателя принять все, что посылает судьба ему и его героям. Принять с улыбкой невинного, не ведающего о трагизме жизни. Правдоподобия же и смысловой отточенности требовать здесь кощунственно, потому что перед нами классическая проза настроения. Какого? Да просто хорошего. Тем, кому этого мало, — не сюда.
Майя Кучерская
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/08/31/212084