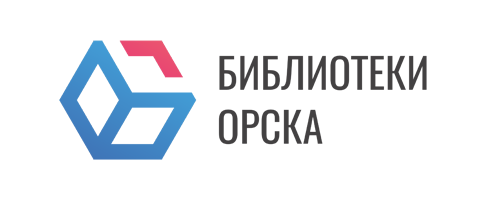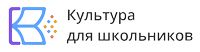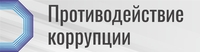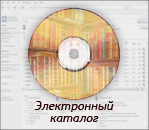Советуем почитать
Советуем почитать
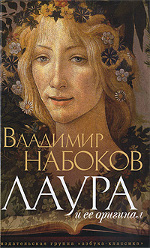 К нам приехал командор
К нам приехал командорОпубликованы наброски Владимира Набокова к будущему роману «Лаура и ее оригинал». Их вполне достаточно, чтобы понять: перед нами абрис несомненного шедевра
Есть все-таки что-то мистическое во всей этой истории с публикацией недописанного набоковского романа. Туманное предисловие сына писателя Дмитрия, решившегося вопреки ясно выраженной воле отца карточки с набросками книги не сжигать, напротив — опубликовать, предисловие, намекающее на потустороннее участие и поддержку отца в принятии этого непростого решения, тут ни при чем. Мистика в другом: в явлении этого текста сегодня, сейчас, в ситуации совсем уж удушающего безрыбья и наготы отечественной словесности, которая к моменту присуждения очередной премии едва находит, чем прикрыться. При таком раскладе голос писателя, благодаря публикации на мгновение сделавшегося нашим современником, стоявшего уже на пороге вечности и тем не менее аккуратно строчащего свои карточки, звучит громоподобно, устыжающе, жутко. Нам явился каменный гость. О, тяжело пожатье каменной его десницы!
До того как откроешь эту книгу, можно думать о важности (неважности) последней воли автора, о психологии наследников, цинизме книжного бизнеса и о том, что недописанные книги, наверное, правильней было бы издавать иначе: сначала — в составе академического собрания сочинений, потом — массовым тиражом, но все это, повторюсь, до. Едва начинаешь чтение, на тебя немедленно набрасывается все это. «Слепой черный щенок», он же «бесформенный ридикюль», крошечные фигурки, красные и белые, подаренных мистером Гумбертом Г. Гумбертом шахмат (да, Набоков окликает самого себя на каждом шагу), полуразрушенные крылечные ступеньки, «заросшие мятой и колокольчиками среди можжевеловых кустов», «оранжево-лучистые, как брызнувшее из-за туч солнце», веера, «летнее воскресенье в полоску». Стилевое изящество, жесткая точность найденных слов и образов, как кажется, совершенно адекватно переведенных с английского, и вот эта особенная повествовательная набоковская бестрепетность пленят и самых неистовых поклонников писателя, и его ненавистников, пленят и доведут до сладкого обморока, обморока восторга. Потому что в каждом отрывке здесь поступь великого мастера, в каждой реплике — царственная стать.
В этом и заключается основное наслаждение, которое получаешь от «Лауры и ее оригинала», — наслаждение стилистическим совершенством фрагментов. Набоков был и великолепным архитектором своих вещей, но по 138 карточкам судить о композиционных достоинствах будущего романа невозможно. Как и оценить глубину замысла, впрочем в любом случае интересного, перспективного, сложного. Здесь намечены лишь общие контуры сюжета.
Врач-невролог Филипп Вайлд, знаменитый ученый, болезненно полный, страдающий от избытка своего тела, врастающих ногтей на ногах, начинает борьбу с терзающей его плотью — учится стирать себя, впадая в гипнотранс: «Тонкое основание моего мелом начертанного “я” было стерто и таковым оставлено, когда я решил выйти из своего гипнотранса. Истребление десяти пальцев ног сопровождалось привычным ощущением сладострастной неги». Вторая, хотя не исключено, что и первая, открывающая роман сюжетная линия — история детства и любовных похождений Флоры, хрупкой девушки-ребенка с задатками нимфоманки, о которой один из ее любовников написал гениальный роман «Лаура». Не забыв описать в романе и смерть главной героини, одна из самых сильных сцен именно эта.
Итак, перед нами богатый замысел, задевающий множество тем, которые мы, однако, можем лишь перебрать, как клавиши, как карточки в каталоге. Сознательное самоуничтожение, оправданность самоубийства, зеркала, наставленные друг на друга, литература — жизнь — литература («весь ее изящный костяк тотчас вписался в роман») — перебрать и выдернуть руку из каменной десницы, сбежать от этого слишком уж оглушительного свидетельства о том, что такое подлинное литературное мастерство и величие, большая книга и лучший роман года.
Майя Кучерская
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/12/10/221012
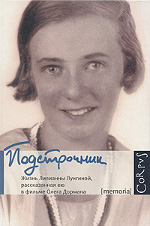 Мемуары в жанре святочного рассказа
Мемуары в жанре святочного рассказа«Подстрочник» Лилианны Лунгиной проникнут ощущением радости и благодарности судьбе. Возможно, еще и поэтому книга оказалась такой успешной
Когда воспоминания Лилианны Лунгиной (1920-1998) начали продавать на ярмарке нон-фикшн, у прилавка случилась давка, книгу буквально рвали из рук, а спустя два дня выяснилось, что первый тираж (4000 экземпляров) разлетелся. Сейчас допечатывается уже третий тираж.
Причины успеха, казалось бы, на ладони: недавно по каналу «Россия» был показан документальный фильм Олега Дормана «Подстрочник», из которого и выросла эта книга, Дорман попросту перенес многосерийный монолог своей героини на бумагу. Свою роль сыграло имя младшего сына героини — создателя фильмов «Остров» и «Царь» Павла Лунгина (хотя Павлику в книге посвящено примерно пол-абзаца) и грамотный промоушн.
Все действительно было бы ясно, если бы книги людей значительно более известных, чем переводчица «Карлсона» и «Пеппи Длинныйчулок», рекламируемые не менее профессионально, никогда не застревали на складах. Нет, воспоминания Лилианны Лунгиной — с секретом.
Загадочности им добавляет и то, что Лилианна Лунгина не рассказывает почти ничего, чего мы бы не знали от других ее современников. Разве что в главах о детстве, проведенном в гимназиях Германии и Франции, описываются реалии не слишком известные, об остальном — жизни довоенной Москвы, пропитанной ощущением страха, полуголодной эвакуации, учебе в знаменитом ИФЛИ, где однокурсниками Лунгиной были поэты Павел Коган и Давид Самойлов, мучительных собраниях в поддержку ждановского постановления, оттепельном просвете, сменившемся мутным абсурдом брежневской эпохи, — все живущие в этой стране уже читали, слышали. Или попросту жили в эти времена. Беглые, но точные портреты Окуджавы, Евтушенко, Солженицына, Виктора Некрасова, Ахматовой и Твардовского, с которыми Лунгина была знакома, конечно, украшают повествование, но в общем тоже совпадают с уже существующими.
Так что эта книга никак не кладезь недоступной прежде информации. Ее необычность в другом. В способности героини жить в аду и не заражаться его мраком. «Вот так бы я сказала: на фоне очень тяжелой материальной и моральной жизни у нас никогда не было ощущения, что мы трудно или плохо живем. Мы всегда жили весело. И хорошо. И счастливо». Здесь спрятан ключ к популярности книги. Оказывается, даже о тяжком можно рассказывать с юмором и счастливой улыбкой на устах.
Можно, конечно, прищуриться и сказать: легко ей было сохранять веселость, не потеряв никого из близких в сталинских лагерях, живя с родителями в трехкомнатной квартире и получая продукты из закрытого распределителя в то время, когда страна задыхалась в коммуналках и голодала. Но это будет несправедливо, потому что смерть не обманешь и страшных потерь, трагедий, боли героиня все равно не избежала. И тем не менее, не претендуя ни на дидактику, ни на объективность, Лилианна Лунгина повторяет: «Жизнь безумна, но все-таки прекрасна». Потому что хорошее все равно побеждает злое, а замечательных людей так много. Остается только улыбнуться ей вслед.
Майя Кучерская
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/12/24/222121
Начало шестидесятых. В ленинградской коммуналке три старухи растят маленькую «незаконную» и к тому же немую дочь своей молодой соседки — фабричной работницы. Эта почти банальная ситуация дает автору возможность показать мир почти тотального непонимания, мир, в котором почти все связи разорваны, где царит испуганность, где речь обессмыслена до такой степени, что невозможно не только ничего объяснить, но даже и вообще что-нибудь сказать. (Недаром наиболее понимающий и тонко чувствующий персонаж — та самая маленькая девочка — не разговаривает по причинам физиологического свойства.) Все это еще памятно и должно вроде бы задевать и волновать. И задевало бы, если бы «Время женщин» не было написано в такой народно-сюсюкающей манере.
В итоге редкие куски, где повествование ведется из нашего почти что времени, от лица выросшей (и заговорившей) воспитанницы, написанные просто и прямо, даже почти по-школьному, ощущаются как передышка, как возможность наконец-то перестать сопротивляться главенствующей линии этого текста — выжимать из нас чувства и слезы при помощи порядка слов и уменьшительных суффиксов: «Мама на кроватке лежит. Бабушки шептались: все у нее отрезали. Как же — все? Вон и ручки у нее остались, и ножки. Чашку взяла, водичку пьет».
Но «простых» кусков в романе Елены Чижовой, повторимся, немного, и к рассказанной там истории они отношения не имеют. А история эта, признаем, вполне душераздирающая и трагическая — специальным советским трагизмом.
Всеобщее хамство и бессердечие прорастают в матери девочки — молодой работнице Антонине — смертельной раковой опухолью. В отличие от старух с дореволюционными именами Евдокия, Гликерия и Ариадна, сильных общей укорененностью в досоветском и общим же неприятием советского, ее держит лишь стремление защитить своего ребенка (она, например, скрывает от всех немоту девочки — «в интернат заберут"), и эта поддержка оказывается недостаточной.
Афера, которую с помощью разысканного старого (во всех смыслах) друга Гликерии Соломона Захаровича проворачивают старухи, чтобы девочку после смерти матери не взяли в интернат и не отобрали у нее комнату, кажется достойной совсем не плутовского романа, а античной трагедии. А в момент, когда не то чтобы злой, а бессмысленный и слабый, как все те, кто из «нового» времени, ухажер Антонины пересчитывает сумму, доставшуюся ему за фиктивный брак с умирающей женщиной, сердце сжимается без всяких «ручек» и «водичек». Жаль, что на протяжении почти всего текста все эти «ручки», «водички», а также «рубашечки», долежавшие в комоде «с эва каких времен», сжиматься просто не дают.
Анна Наринская
Газета «Коммерсантъ». № 220 (4275) от 25.11.2009.
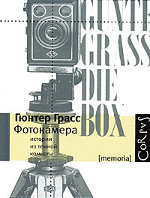 В новой документальной книге Гюнтер Грасс рассматривает жизнь своей семьи сквозь объектив волшебного фотоаппарата.
В новой документальной книге Гюнтер Грасс рассматривает жизнь своей семьи сквозь объектив волшебного фотоаппарата.Фотокамера (Die Box) — продолжение автобиографичной «Луковицы памяти». Той самой, что вызвала в Германии скандал: соотечественники не смогли простить Грассу службы в войсках СС.
«Фотокамера» тоже подняла переполох — но уже в собственной семье писателя.
Еще бы. Согласно сюжету престарелый Грасс собирает всех своих детей, и они по его просьбе вспоминают под запись о детстве, юности, своих отношениях с отцом. Такой вот подарок папе на 80-летний юбилей, который он и в самом деле отмечал в прошлом году. Детей у Грасса восемь. Четверо от первой жены, двое от женщин, на которых он не был женат, еще двое приемных, от жены второй. В книге они перебивают друг друга, слегка ссорятся, смеются, иногда чуть не плачут и рассказывают. О своих мечтах, увлечениях, отношениях Грасса с их матерями — в итоге о собственных судьбах и истории частного человека в Германии 1950-1980-х гг. Когда Грасс дал прочитать рукопись этой почти пьесы участникам действия, многие возмутились, не пожелав предавать огласке подробности своей личной жизни. Грасс послушно поправил кое-что, усилил всеобщий скепсис в собственный адрес и вывел всех под вымышленными именами. И вот книга перед нами.
В центре ее — единственный трюк. Друг семьи фотограф Мария Рама — тоже реальное, заметим, лицо — щелкает отца семейства и всех его отпрысков на простенькую бокс-камеру «Агфа», проявляет в темной комнате пленки, а на них… Проступает невидимое. Дочка Лара, мечтающая о собаке, видит себя на снимке с лохматым щенком. Мальчишки, прыгающие с военного дзота, предстают солдатами в разгаре боя. Разрушенные войной соседские квартиры блещут уютом и обстановкой. Рояль целехонек, а в клетке поет канарейка. Словом, чудо-ящичек проявляет желания. Угадывает будущее. Знает прошлое. Это, конечно, метафора, метафора искусства, и однажды в книге Грасс проговаривается, что примерно так же возникают на бумаге слова — из потемок, точно изображение при проявке пленки.
И все же эта книга не о механизмах искусства. Она о тайне времени. Благодаря зрячей камере грань между прошлым-настоящим-будущим исчезает. Все три измерения сливаются в одно пространство, один простор. Простор под названием вечность.
Грасс не раз довольно скептически отзывается на этих страницах о религии и чудесах, но написал-то он как раз об этом. О человеческой жизни, увиденной оттуда. Война, танцы на облаке с обожаемой (поначалу) женой, новые влюбленности, расставания, страдающие от разрыва родителей дети, переезды, работа над книгами, постепенно взрослеющие сыновья и дочери, их романы, свадьбы, рождение внуков — одно набегает на другое и происходит одновременно… Но в отличие от «Луковицы памяти» чувство вины и ответственности за происходящее здесь выведено в подтекст. В фокусе «Фотокамеры» — не боль раскаяния, а глубинное примирение с жизнью, сложившейся, что поделаешь, именно так, не иначе.
Вообще-то, читать эту сбивчивую семейную сагу трудно, иногда занудно, не разберешь, кто что и к чему здесь говорит. Но это нам некогда распутывать эти истории. Грасс никуда не торопится и дослушивает каждого. Тысяча лет для него не длиннее, чем день. Он давно не цепляется за уходящие минуты, он спокоен, видя: времени больше нет. И мудро щурится, и покусывает мундштук своей черной трубки, сохраняя невероятное благородство осанки и грацию библейского старца.
Майя Кучерская
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/09/15/213868
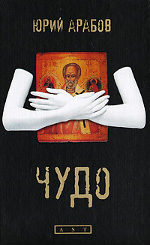 В новом романе сценарист и писатель Юрий Арабов тактично, но ясно объясняет, что такое русское чудо.
В новом романе сценарист и писатель Юрий Арабов тактично, но ясно объясняет, что такое русское чудо.В основу романа «Чудо» положены события, случившиеся в Куйбышеве в 1956 г. и получившие название «стояние Зои». Правда, в романе девушка Зоя превращается в Татьяну Скрипникову, а действие переносится в вымышленный Гречанск: уральский городок с неустанно чадящим металлургическим заводом, хиреющей церковью и нищим бытом — словом, с атмосферой беспросветности абсолютной и беспощадной.
В городе царит вечная тьма. Электричество то и дело отключают, по улицам стелется едкий дым, даже снег черен от угольной пыли. И все ключевые эпизоды разворачиваются то вечером, то ночью, то в полумраке рассвета.
Татьяна позвала гостей, но радиола закашлялась и смолкла, электричество, как водится, отрубили. Начались танцы при керосинке, под гитару и водку. Танин ухажер, Николай, отчего-то не явился, и тогда девушка схватила икону с Николаем-чудотворцем и закружилась со святым, как с кавалером. Но сейчас же замерла в ледяном столбняке. У врачей, приехавших сделать окаменевшей Татьяне укол, погнулась игла, у плотника, пытавшегося выпилить кусок пола, на котором она стояла, сломалась стамеска.
Но дальше — застывшая посреди избы Таня начинает согревать и освещать свой холодный, черный город. Всем — плотнику, свердловскому журналисту, местному батюшке и даже случайно заехавшему в Гречанск Никите Сергеевичу Хрущеву Таня дарит чудо. Каждому свое — по разуму и по вере.
Именно так: Юрий Арабов написал историю про больное, нищее русское чудо, которое приходит лишь через страдание и редко приносит сундучок с золотом, зато дарит роскошь обретения Смысла. Тема опасная: шаг вправо, шаг влево — фальшь, но Арабову удается рассказать эту историю деликатно, без нажима и расстановки акцентов, с доверием к читателю, который уж как-нибудь сам разберется, почему роман начинается в воскресенье, а заканчивается на Пасху.
Майя Кучерская
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/02/12/181317