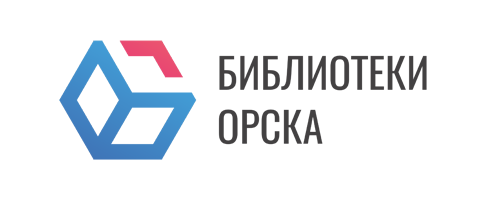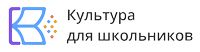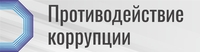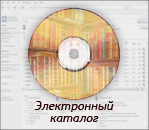Советуем почитать
Советуем почитать
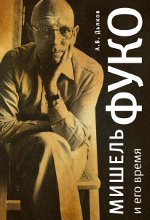 Как утверждают издатели, это первая полноценная русскоязычная монография, в которой исследование историко-биографического характера дополняется критическим анализом концептуальных моментов философии Мишеля Фуко (1926–1984). Рассмотрены пересечения и параллели фукианской мысли с основными концептуальными течениями в постструктурализме.
Как утверждают издатели, это первая полноценная русскоязычная монография, в которой исследование историко-биографического характера дополняется критическим анализом концептуальных моментов философии Мишеля Фуко (1926–1984). Рассмотрены пересечения и параллели фукианской мысли с основными концептуальными течениями в постструктурализме.
Об оригинальности подхода автора, профессора кафедры философии факультета философии, социологии и культурологии Курского государственного университета Александра Дьякова, можно судить по заключительному выводу: «Если постмодерн исчезнет так же, как он некогда появился, если событие, возможность которого мы уже можем предчувствовать, не зная пока ни его облика, ни того, что оно в себе таит, разрушит его так же, как сам он во второй половине XX века разрушил почву модернистского проекта, тогда – можно поручиться – Фуко исчезнет из нашего сознания, как исчезает лицо, начертанное на прибрежном песке».
http://exlibris.ng.ru/five/2010-01-21/1_five.html?mthree=3
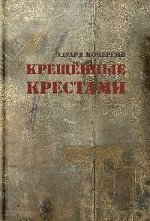 Лучший рассказчик Питера
Лучший рассказчик Питера
Отца и мать арестовали, сына-дошкольника отправили в Сибирь, в полутюремное воспитательное заведение под названием «детприемник НКВД».
Знакомились с вопросов:
— Ты шпион?
— Нет, я враг народа.
Восьмилетний пацан решает бежать и долгих шесть лет пробирается в родной Ленинград. Едет зайцем на поездах, по дороге встречает добрых дяденек военных и по-собачьи злых ментов, сердобольных казахов и суровых уральских мужиков, видит эшелоны возвращающихся с войны безруких и безногих инвалидов, учится выживать в тайге у лесного человека-«хантыя», обучается своему будущему ремеслу у художника-китайца. С наступлением холодов сдается милиции, зимует в детприемниках, снова бежит. Несколько раз становится подручным воров, попадает в детскую колонию. В финале находит свою мать.
Это не роман, а реальная история детства знаменитого сценографа, главного художника БДТ Эдуарда Степановича Кочергина.
Книгу стоит прочесть по разным причинам: и как уникальный документ (кто еще показал сталинскую эпоху глазами ребенка? – причем не свою семью, а всю страну); и ради напряженного сюжета, состоящего сплошь из саспенсов «поймают» – «не поймают»; и ради огромной галереи быстрых и точных «графических» портретных зарисовок. Однако есть и другая причина, по которой можно рекомендовать эту книгу всем, кто любит литературу: Кочергин – мастер слова. Такого языка в русской словесности, и прежней, и нынешней, кажется, ни у кого не бывало:
После отъезда погонников мы видели, как дэпэшная начальница, ругаясь бабским матом, своими жирными кулаками лупила кромешницу по ее первобытным глазам;
Ближайшими заспинниками надзирателя были три охранника — Пень с Огнем, Чурбан с Глазами и просто Дубан — старший попердяй, сексот и болтун.
Перед нами бывальщина, написанная небывалым языком: смесью детской речи и уголовного жаргона. Художник пишет только двумя красками – но такими, каких до него никто не смешивал. В результате получается щемящее сочетание трогательности и жестокости, Диккенса и Бабеля: рассказ о том, как несчастный ребенок нашел свою маму одновременно оказывается историей о том, как «подворыш вышел в стопроцентные фраера».
Кочергин предельно лаконичен, каждое слово у него на своем месте, каждый персонаж обрисован минимальными средствами, иногда даже одним только прозвищем. «Обзовоны» начальников и воспитателей настолько выразительны, что суть характера становится ясна без всяких комментариев: Жаба, Свиная Тушенка, Крутирыло, Гиена Огненная, Однодур и Многодур, Золоторотный Клык, Шкетогон, Тылыч, Пермохрюй. Мастеру достаточно одной метафоры, чтобы читатель представил внешность героя: «В профиль шарабан Тылыча напоминал двусторонний молоток». А для окончательной, завершающей характеристики человека довольно одного эпизода: жирная пучеглазая Жаба, начальница детприемника, рисует умильно-парадные картины на тему «Сталин и дети», а в качестве натурщиков использует своих подопечных, Сталиным же и обездоленных.
Из странных, небывалых слов и выражений, которыми полна книга Кочергина, можно составить целый словарь объемом с «Каторжную тетрадь» Достоевского: богодуй, жутики, зверопад, капутка, лагаш, людва, мандалай, мухосос, мралка, козлоблеи, ныкаться, отдать дых, помоганка, присосыш, прихудеть, саловон, съедоба, трапезонды, унизиловка, хостяк, чувствилище, шамкала. Среди этих слов есть настоящие произведения минималистского искусства: матросы, например, называются «полосатиками». А еще тут показаны скрытые словообразовательные возможности русского языка. Вот хотя бы ряд существительных на «-ла»: бабила (баба), возила (водитель), гасила (тот, кто гасит свет в палате), топила (истопник), людские торчилы (дяденьки, замеченные в лесу), теребила, дёргала, царапала, рвала, драла (последние пять слов говорит нянечка о ребенке). Попробуйте продолжить – увидите, что любой частотный глагол разговорной речи легко преобразуется в такое существительное. И стилистическая окраска большинства из них окажется «кочергинской» – грубо-детской, трогательно-наивно-забавно-страшной: «И мощная охранная пердила, выдернув меня из строя за шкварник бушлата, потащила в подвал».
Литературный талант Эдуарда Кочергина признан уже давно. Еще в 1990-х он начал публиковать в журналах свои былички-воспоминания, а в 2003 году вышла «Ангелова кукла» – сборник, без которого теперь не полна ни питерская мифология, ни русская литература. Тогда он открыл читателям затерянный мир ленинградского дна – мир нищих, калек, проституток, воров, юродивых. Теперь показал сталинскую Россию в разрезе от Омска до Ленинграда.
Психолог Лев Выготский считал, что в искусстве форма развоплощает содержание и этим вызывает у реципиента очищение эмоций, катарсис. Наверное, это происходит далеко не всегда, но к книге Кочергина слова ученого подходят как нельзя лучше. Страшная реальность нарисована с таким мастерством, что читатель полностью погружается в этот мир: он и плачет, и смеется, и негодует, и трусит, и храбрится, но главная его эмоция – восхищение тем, как рассказано. Думаю, что «Крещенные крестами» – тот редчайший случай, когда голод по «настоящей» литературе насытят и эстеты, и любители сырого мяса «реальности».
Андрей Степанов
http://prochtenie.ru/index.php/docs/3612
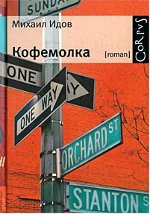 Проза крупного помола
Проза крупного помола«Кофемолка» нью-йоркского публициста Михаила Идова – дебютный роман о том, что бизнес интеллигентам не игрушка, под мечты лучше не набирать банковских кредитов, а в попытках преодолеть брачный кризис с помощью семейного предприятия смысла не больше, чем в желании спасти вишневый сад по лотерейному билету.
Идов написал эту историю – о том, как интеллигентная молодая чета (он книжный обозреватель за символическую плату, она юрист маленькой конторы) решили открыть свое собственное кафе, – по-английски. Переведенный автором (с женой) на русский как-то нехотя и без веры в успех, роман сразу вызвал непонятное возбуждение у московской читающей элиты, знакомой с Идовым по Сноб.ру.
Всякий перевод, по мнению самого же Идова, есть пересадка лица.
Ожидания красоты после подобной операции избыточны: были бы нос с глазами на месте – и на том спасибо. Не владея языком оригинала, трудно судить о привлекательности исходной физиономии «Кофемолки». В переводе же она получилась если и не очень располагающей к знакомству, то узнаваемой. С какой стороны ни посмотри.
С традиционно-литературной – торчат уши чеховских героинь, прославляющих рубль, заработанный собственным трудом (монологи на эту тему одной из трех сестер не без оправдательной издевки цитирует жена главного героя и инициатор «настоящего дела», в смысле кафе, Нина). Глаза и особенно рот у пересаженного лица романа знакомы российскому читателю по недавней и сегодняшней современности, когда обнищавшие НТРы пускались в открытие собственных журналов, палаток, мест на рынке и закусочных под залог квартир с последующим переходом оных в руки щедрых бандитов.
История узнаваемая. Что, однако, чтения не облегчает.
В собственном переводе Идов довольно тяжеловат. В анонсах и критике семейная пара первооткрывателей кафе сходу называется «интеллектуалами». Чему сам главный герой – Марк Шарф – непременно бы усмехнулся. И в своей тяжеловесной манере слегка бы поразмышлял, отчего так дешево достается столь высокое звание. Благодаря гуманитарному образованию и приобретенной на газетной службе способности в течение десяти минут поддерживать беседу с любым специалистом, не боясь разоблачения собственного невежества. Знанию того, что истинное европейское кафе отнюдь не парижское, а как раз напротив – венское. Умению почувствовать и оценить в венском кофе горький привкус третьего рейха.
Тем не менее, по замыслу автора, Марк и Нина и в самом деле интеллектуалы.
А «Кофемолка» – роман о столкновении двух культур, одна из которых – массовая и схватки не замечает, вторая – элитная и терпит фиаско.
Интеллектуализм протагонистов вполне себе консьюмеристский. Их неприязнь к масскульту и ширпотребу лишена холода аристократизма. Их культурные коды замешаны на сериале «Закон и порядок», фильмах Трюффо, бульварной эзотерике, Бродском и скупых репликах героев комиксов, требующих постоянных сносок для русского читателя, даже и претендующего по состоянию счета и ума на звание «глобал рашенс».
Пресноватой самоиронии героев Идова не хватает силы, чтобы оценить ту малость культурной составляющей, которую надо вычесть из их претензии на стиль, чтобы жители Нижнего Истсайда не перебежали из их настоящего венского кафе к конкуренту «Дерганному Джо», открывшемуся напротив, торгующему кофе навынос и не заботящемуся о высоте пенки в капучино.
Кулинарные ценности, принятые посетителями кафе Марка и Нины, должны были подстегнуть их тягу к ценностям духовным.
Общению за столиками и стойкой. Поэтическим презентациям и выставкам актуального искусства. Оказалось, что это вот – истинное – оценить в целом Нью-Йорке некому. Некому ехать через весь город в кафе «Кольшицкий», чтобы выпить чашечку настоящего венского кофе, съесть пирожное от «Шапокляк» и перекинуться умным словом с Марком.
Хотя, может быть, Нью-Йорк тут вообще ни при чем.
В созданной Идовым реальности людей как-то не густо, и говорить им друг с другом просто не о чем. Полтора десятка изображенных действующих лиц разной степени бледности к общению оказываются не приспособлены. Посетители же кафе с улицы вообще безлики. Никакого желания изображать из себя радушного хозяина и общаться с ними ни у Марка, ни у Нины нет. И между собой эти самые посетители общаться не желают. Они заказывают кофе, открывают свои ноутбуки и часами просиживают в сети, не поднимая голов, чтобы оценить стены, обшитые натуральным дубом.
Возможно, так и было задумано.
Десятка теней довольно, чтоб изобразить миллион ничем не отличных. «Кофемолка» – вариация на тему глобального культурного кризиса, который в том, что есть кому снимать, ставить, писать, но некому смотреть и читать. Читатели и зрители вымирают. Их место занимают внештатные чтецы романов, пишущие рецензии за гроши или бесплатно (как Марк в докофейную пору), поскольку самое едкое слово обозревателя не принесет издателю ощутимого количества покупателей книг. И место посетителей культурных венских кафе должны занять добровольцы духовного общения или платные ресторанные критики.
Это знание героям «Кофемолки» можно было бы принять как положительное сальдо рухнувшего проекта и постараться жить дальше, как жили до.
Но они его попросту не замечают. Недурной роман семейных отношений похоронен кризисом культуры. Как это часто бывает, лихорадочная возня с «настоящим делом» – лишь сублимация психологических проблем жены Марка Нины, раздавленной в детстве деспотичной мамой Ки, родом из Малайзии.
Потеряв друг друга и себя после закрытия кафе, герои все же получают от автора право на один звонок, и в их кратком диалоге потерянных людей оказывается куда больше живого, чем на всех четырехстах страницах культурологических исканий.
Владимир Цыбульский
http://gazeta.ru/culture/2010/01/13/a_3310926.shtml
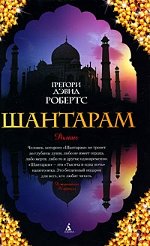 Индийское, двухсерийное
Индийское, двухсерийноеРоман «Шантарам» — цветная, увлекательная сказка, полная чудес и несуразиц. В нее можно не верить, но слушать ее страшно интересно.
Права на экранизацию романа Грегори Дэвида Робертса «Шантарам» ушли с аукциона за безумные $2,5 млн. Фильм должен выйти в следующем году в главной роли с Джонни Деппом, который не устает повторять во всех интервью, что эта книга снесла ему крышу. Еще бы.
Первое и действительно острое для литобозревателя, пролистывающего энное число книжек в неделю, ощущение от чтения «Шантарама»: от него и правда невозможно оторваться. Еще пять минут назад тебя не связывало с этим неизвестным австралийским автором, между прочим сбежавшим из тюрьмы, буквально ничего, но вот ты уже плывешь с ним в безумном водовороте бомбейских улиц, плывешь и дивишься.
Буйволы стоят у светофора вместе с машинами, прокаженные торгуют лекарствами, прохожие жадно глазеют на иностранцев, мужчина за углом пытается облегчиться, рядом, на стройке, камни носят исключительно женщины в цветных сари, виновника аварии забивает разъяренная толпа, а чуть глубже, в трущобах, торгуют детьми, которые, впрочем, только счастливы — им в отличие от братьев и сестер удалось выжить, обманув голод, эпидемии и цунами…
Но при всем бесконечном разнообразии и калейдоскопической пестроте материала эта книга чрезвычайно проста. Что и подкупает.
Никаких полутеней — сплошь прямые линии, окружающий мир подчиняется главному герою с плавной грацией индийской танцовщицы. Лину — это, впрочем, ненастоящее его имя, поэтому дальше будем звать его Шантарам (т. е. «человек, которому Бог даровал мирную судьбу»), так героя прозвали жители деревни, — так вот, Шантараму запросто удается сбежать из тюрьмы, он легче легкого вливается в жизнь Бомбея, а потом становится своим парнем и у прожженных мафиози, и у трущобных нищих, и среди жителей индийской деревни.
Вообще, Шантарам оказывается настоящим суперменом, почти культурным героем, повествование о котором ничуть не нуждается в психологической достоверности. Ее в романе и нет.
Афгано-индийские мафиози исполнены здесь романтических порывов — главный из них, например, отважно отправляется в горы родного Афганистана на помощь воюющим. Проститутки оборачиваются верными подругами, уличные мошенники — истинными друзьями. Да и сам главный герой, хотя и занимается делами вполне циническими и преступными (подделка документов, валютные махинации, контрабанда), тем не менее трогательно заботится об обитателях трущоб — спасает их от холеры, голода, а вдобавок вызволяет из беды дрессированного медведя.
Мы хорошо знаем этот вид сказки — рассказчик недаром признается в любви к индийскому кино: да, это, конечно, оно, хотя и продвинутое. Неудивительно, что примерно до середины романа неясно, когда все это происходит.
Сначала кажется, что в наше время: рассказчик замечает, что у полицейских не было с собой мобильных, поминает и базу данных, которая хранится в компьютере. Лишь потом всплывают исторические координаты, неожиданно датирующие действие началом 1980-х — в то время мобильники и персональные компьютеры не снились даже самым отважным индийским мечтателям. Но все эти очевидные анахронизмы не воспринимаются как просчеты — просто «Шантарам» не стоит читать с калькулятором в руках, дотошно прощупывая смысловые, хронологические и сюжетные швы. Эпос есть эпос, сказка есть сказка.
Фольклор же имеет дело не с типами, а с идеями, которые Робертс расцвечивает с таким жаром и фантазией, что в конце концов все в этом тексте, даже напористую пышность стиля, начинаешь воспринимать как единственно возможное и данность. В общем, как миф.
Майя Кучерская
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/01/14/222873
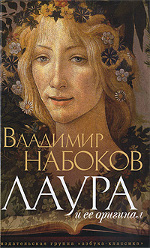 К нам приехал командор
К нам приехал командорОпубликованы наброски Владимира Набокова к будущему роману «Лаура и ее оригинал». Их вполне достаточно, чтобы понять: перед нами абрис несомненного шедевра
Есть все-таки что-то мистическое во всей этой истории с публикацией недописанного набоковского романа. Туманное предисловие сына писателя Дмитрия, решившегося вопреки ясно выраженной воле отца карточки с набросками книги не сжигать, напротив — опубликовать, предисловие, намекающее на потустороннее участие и поддержку отца в принятии этого непростого решения, тут ни при чем. Мистика в другом: в явлении этого текста сегодня, сейчас, в ситуации совсем уж удушающего безрыбья и наготы отечественной словесности, которая к моменту присуждения очередной премии едва находит, чем прикрыться. При таком раскладе голос писателя, благодаря публикации на мгновение сделавшегося нашим современником, стоявшего уже на пороге вечности и тем не менее аккуратно строчащего свои карточки, звучит громоподобно, устыжающе, жутко. Нам явился каменный гость. О, тяжело пожатье каменной его десницы!
До того как откроешь эту книгу, можно думать о важности (неважности) последней воли автора, о психологии наследников, цинизме книжного бизнеса и о том, что недописанные книги, наверное, правильней было бы издавать иначе: сначала — в составе академического собрания сочинений, потом — массовым тиражом, но все это, повторюсь, до. Едва начинаешь чтение, на тебя немедленно набрасывается все это. «Слепой черный щенок», он же «бесформенный ридикюль», крошечные фигурки, красные и белые, подаренных мистером Гумбертом Г. Гумбертом шахмат (да, Набоков окликает самого себя на каждом шагу), полуразрушенные крылечные ступеньки, «заросшие мятой и колокольчиками среди можжевеловых кустов», «оранжево-лучистые, как брызнувшее из-за туч солнце», веера, «летнее воскресенье в полоску». Стилевое изящество, жесткая точность найденных слов и образов, как кажется, совершенно адекватно переведенных с английского, и вот эта особенная повествовательная набоковская бестрепетность пленят и самых неистовых поклонников писателя, и его ненавистников, пленят и доведут до сладкого обморока, обморока восторга. Потому что в каждом отрывке здесь поступь великого мастера, в каждой реплике — царственная стать.
В этом и заключается основное наслаждение, которое получаешь от «Лауры и ее оригинала», — наслаждение стилистическим совершенством фрагментов. Набоков был и великолепным архитектором своих вещей, но по 138 карточкам судить о композиционных достоинствах будущего романа невозможно. Как и оценить глубину замысла, впрочем в любом случае интересного, перспективного, сложного. Здесь намечены лишь общие контуры сюжета.
Врач-невролог Филипп Вайлд, знаменитый ученый, болезненно полный, страдающий от избытка своего тела, врастающих ногтей на ногах, начинает борьбу с терзающей его плотью — учится стирать себя, впадая в гипнотранс: «Тонкое основание моего мелом начертанного “я” было стерто и таковым оставлено, когда я решил выйти из своего гипнотранса. Истребление десяти пальцев ног сопровождалось привычным ощущением сладострастной неги». Вторая, хотя не исключено, что и первая, открывающая роман сюжетная линия — история детства и любовных похождений Флоры, хрупкой девушки-ребенка с задатками нимфоманки, о которой один из ее любовников написал гениальный роман «Лаура». Не забыв описать в романе и смерть главной героини, одна из самых сильных сцен именно эта.
Итак, перед нами богатый замысел, задевающий множество тем, которые мы, однако, можем лишь перебрать, как клавиши, как карточки в каталоге. Сознательное самоуничтожение, оправданность самоубийства, зеркала, наставленные друг на друга, литература — жизнь — литература («весь ее изящный костяк тотчас вписался в роман») — перебрать и выдернуть руку из каменной десницы, сбежать от этого слишком уж оглушительного свидетельства о том, что такое подлинное литературное мастерство и величие, большая книга и лучший роман года.
Майя Кучерская
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/12/10/221012