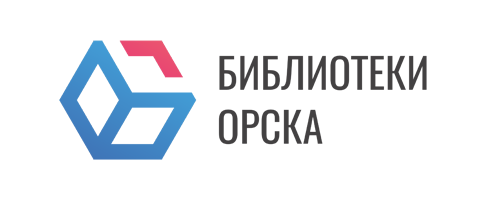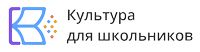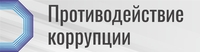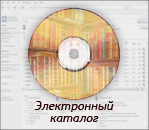Советуем почитать
Советуем почитать
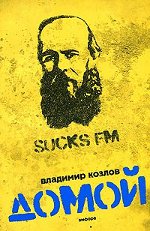 Наш дом – «раён»
Наш дом – «раён»В новом романе Владимира Козлова «Домой» все та же жесть: все пьют пиво, младенцы матерятся, подростки бьют в лицо и по яйцам, девицы мочатся на избитых, герой падает камнем в болото, кругом трясина, гниль, кровь и плесень – и возразить, собственно, нечего.
Дебютными «Гопниками» Владимир Козлов приговорил сам себя. К этой теме. Персонажам. Интонации, лексике. Теперь, что бы ни писал, его пэтэушники – совковая урла, сосущая пиво, обрабатывающая ногами каждого, кто «не из нашего раёна», и говорящая только «е…» да «ё…», – не отпустят его от себя. Как заметят, что сел снова за компьютер писать, – сплюнут, матюгнутся и влезут в текст. Нажрутся, отымеют, отметелят, наблюют.
Пусть и не в главных героях.
Пусть в проходных и уличных сценах, зафиксированных боковым зрением действующих лиц. Они не фон и не театральный задник в новой пьесе. В Москве, Праге, провинциальном городке нового романа «Домой» отморозок мэр Пинский, рекламщик Серега, бандит Захар, журналистка Аня и единственный сопротивляющийся и главный герой Алексей Сухарев – все вышли из «Гопников» и сотворены из того же праха. Автор, впрочем, ничего против не имеет. Он верен себе. Своему взгляду. Видит он так.
Знающим толк в Буковски этот крэг – сомнительной силы.
Но вполне вставляет. Кайф – специфический. Игра в слоников в ментовской. Противогаз на голове читателя, шланг пережали. Воздуха нет. Мир без альтернативы. Цвета, мысли, чувства. Четвертую бутылку допили, отымели девственницу. Ногой в пах, проснулись с бодуна. Живем дальше. Чувство протеста задыхается вместе с читающим. Воздуха нет. Все правильно, все так и есть. Сам открываешь параллели обычной жизни с козловской. Перед тем как отключится сознание от недостатка кислорода.
О том, что никакого мира нет за исписанными стенами школьной уборной, – новый роман Владимира Козлова «Домой».
В нем девяностые и двухтысячные идут навстречу друг другу. Встречаются посередине неизменной и единой своей природы. Заброшенный героем институт. Непонимающая мама. Торговля жвачкой и паленой водкой. Рэкет в Польше. Все гибнут – Алексей Сухарев выживает. Работа на подонка, захватившего комбинат и город. Попытка разоблачения негодяя – и бегство в Прагу, где в начале романа Владимир Козлов находит своего героя и отправляет домой, за дивидендами и справедливостью.
Когда все вокруг живут, как жить нельзя, – сопротивление бессмысленно.
Герой романа «Домой» это понимает. Но сопротивляется. Границы дозволенного размыты. Но они у Сухарева есть. Вымогать деньги у своих соотечественников-челноков, мотающихся за товаром в Польшу, – можно. А вот стрелять в живот несогласному с грабежом – это перебор. О чем Сухарев и кричит своему подельнику рэкетиру. Но бригадир челночников, получив пулю в живот, умирает.
Из трех вариантов сопротивления окружающему гопничеству в романе представлены два.
Эскапизмом пренебрегая, выбирают между быть самому себе художником, ваять и петь тексты, как рокер Женька. Или сотрудничать с гопниками при власти и тихо подрывать их изнутри, как пытается делать Сухарев. Что следует скорее из действий, чем из слов.
Рейдер Пинский приходит в пиар-агентство, где работает Алексей Сухарев. Предлагает провести свою кампанию по выборам в мэрию. Сухарев возмущается. Отказывается участвовать. Потом участвует. Получает должность в мэрии. Пытается вместе с местными рокерами и экологами тайно бороться с тем же Пинским. Кажется, из-за этого в конце концов и гибнет.
Точнее вам никто не скажет.
Кто там с кем борется и почему убивают людей, не объясняется. Суть событий не важна. Человек сопротивляется – этого достаточно, чтобы он исчез. «Он совершил ошибку», – говорит некто Феликс с холодными глазами подружке Сухарева Анне и предлагает ей ошибки не делать: забыть, не задавать вопросов – и все будет хорошо.
Герои романа любят рассуждать. Задавать друг другу вопросы. Отвечает на них вполне резонерски сам Сухарев. Он тут главный по ответам. Впрочем решить, что «Домой» – роман идей, можно только с очень большого перепугу. Коллективное гопническое подсознательное лишает людей способности к собственному суждению.
Изъясняются они, когда не матерятся, языком интернет-штампов и инструкций по пользованию бытовой техникой.
«В бардовской песне присутствует и поэзия, и высокая духовность» или «что может спасти Россию от падения в пропасть бездуховности? На православие вся наша надежда…».
«Домой» Козлова, как и прочие его вещи после дебюта, о том, каковы эти гопники со временем и возрастом. Наглядно показывается наив доктора Борменталя: Шариков ни в каком времени не разовьется в сознательную личность. Мысль о всеобщем гопничестве, рожденная протестом против жести первого романа Козлова, преподносится в следующих книжках самим же автором.
Не лишено, конечно, интереса и правоты. Но потрясения не вызывает.
Все та же игра в «слоника». Противогаз на голову читателю. Шланг пережали. Но щелочку все же оставили. И через нее к задыхающемуся от прочитанного идет струйка гнилого и затхлого, но все же воздуха.
И кто сказал, что так жить нельзя?
Владимир Цыбульский
http://gazeta.ru/culture/2010/02/03/a_3319415.shtml
 Кирпичи и облака
Кирпичи и облака
Книга французского беллетриста Даниэля Пеннака «Как роман» публикуется в России в третий раз. Но очередной ее выход (на этот раз в новой, адресованной родителям серии издательства «Самокат») хочется настойчиво отметить в том числе и в связи с громким возвращением проблем педагогики в область общественного интереса. Культура вновь занялась конфликтом поколений. Телевизор транслирует точку зрения подростка (сериал «Школа» В.Г. Германики в смягченной форме повторяет непечатный месседж из ее же картины «Все умрут, а я останусь»). «Как роман» -- это переводная реплика учителя, замечательно отличная и методически, и интонационно от выступлений большинства его коллег.
Даниэль Пеннак родился в 1944 году в Касабланке, вместе с отцом-военным путешествовал по Африке, Юго-Восточной Азии и Европе. В 1971 году служил сам, прочим армейским повинностям предпочитая наряд по чистке клозетов, где, оперативно покончив с уборкой, самозабвенно читал сочинения Гоголя. Ряд маргинальных профессий, освоенных Пеннаком, начинает работа таксиста и заканчивает преподавание литературы в средней школе. С 1980-го Пеннак начал писать (детективы, повести для детей, политическую сатиру), к нулевым годам ХХI века став одним из самых читаемых французских авторов, переведенным к тому же на тридцать других языков.
Эссе «Как роман» написано, выражаясь языком педсоветов, об отсутствии у современного школьника интереса к чтению. Говоря проще, о любви к книгам, которой мешает пугающе многое. Зачем вообще читать? Как выясняется из книги Даниэля Пеннака, вовсе не обязательно. Главное -- сделать выбор сознательно, понимая, от чего отказываешься, а не из страха неправильно раскрыть тему итогового сочинения.
Универсальный и мрачный закон гибели отношений -- обязанность вместо привязанности, повинность, убивающая любовь, актуален для людей и бумаги. В первой главе «Как романа» живут подросток, в тоске засыпающий над увесистым программным кирпичом, и взрослые, которые назначили телевизор главным и единственным источником бед. Автор поправляет их, не бросая и не отстраняясь от героев-читателей-взрослых, вместе с ними отматывает время назад, к тому, когда, рассказывая сказки на ночь, родители сами были ребенку живым сочинением. Во второй главе, автобиографической, речь идет об учителе и об одном хронически не читающем классе. Завершает книгу список прав, которым пользуется любой взрослый читатель и вместо которых ученикам обычно достается необходимость пересказывать «близко к тексту» и овладевать «техникой чтения», сомнительный навык на скорость отбарабанить непонятный абзац.
Эти права взрослых -- не дочитывать, перескакивать, читать что попало и где попало, вслух или по второму кругу, и главное -- молчать о прочитанном. Пеннак понимает, отчего не поднимается рука вернуть хозяину давным-давно взятую книгу и почему отнимается язык вместо ответа на бестактный вопрос «ну как?». Его текст напоминает о читательском детстве, когда прочитанное, минуя аналитические инстанции, сливается с тобою так прочно, что причин этой связи установить уже невозможно. И невозможно расстаться с проглоченной за ночь и перевернувшей жизнь чужой книгой (правда, как объяснить это ее законным владельцам, автор не уточняет). Читатель опытный, читатель-критик или учитель-словесник отказывается от изменения собственного «я» в пользу объяснений. Написанное меньше его потрясает, зато он лучше формулирует впечатления. По долгу службы отказываясь от права на молчание, удовольствия от наступившей после чтения тишины, он постепенно забывает о существовании такового. Он требует резюме. Пытает, в чем смысл или так называемое художественное своеобразие. Тогда-то догадливые учащиеся и заменяют тексты краткими изложениями, в которых ничто -- ни темные места, ни ирония, ни отступления, ни заигрывания с читателем -- не отвлекают от четких ответов на поставленные экзаменатором вопросы.
В пересказе «Как роман» выглядит страшно серьезно, при чтении -- увлекательно. Легкость, с которой пишет сам Пеннак, поначалу даже тревожит, простота решений настораживает. Автор, однако, не делает ни одного ложного хода, и по мере того как со страшной скоростью летят страницы, за легкостью обнаруживается твердость, кроме иронии неравнодушие и внимание. Коллективный разум класса легко отличает того, кто втирается в доверие от того, кто доверие завоевывает. Автор «Романа» очевидным образом из вторых.
Кроме всего прочего у Даниэля Пеннака имеются отношения с русской литературой: на страницах эссе появляются не только Гоголь, но и Пушкин, Чехов, Достоевский. Его ученики, с ужасом взиравшие на «Мадам Бовари», охотно штудировали Льва Толстого. Любовь к экзотике? Скорее безопасное расстояние, на котором иностранная (классическая!) литература держится от школьной программы. Чтобы вернуть русскоговорящим школьникам удовольствие -- следить за тем, как увесистые кирпичи «Войны и мира» тают, словно легкие облака, -- нам, видимо, придется начать с Бальзака.
Софья САПОЖНИКОВА
http://www.vremya.ru/2010/13/10/246270.html
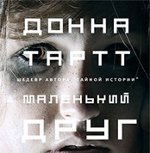 Романы Донны Тартт доходят до России с почти 20-летним опозданием, но это тот самый случай, когда время ничего не меняет: настоявшись, текст кажется еще плотнее и осмысленнее, а историческая дистанция позволяет разглядеть в нем новые смыслы. В Европе романы Тартт постоянно переиздаются и заново переводятся, не покидая полок интеллектуальных хитов.
Романы Донны Тартт доходят до России с почти 20-летним опозданием, но это тот самый случай, когда время ничего не меняет: настоявшись, текст кажется еще плотнее и осмысленнее, а историческая дистанция позволяет разглядеть в нем новые смыслы. В Европе романы Тартт постоянно переиздаются и заново переводятся, не покидая полок интеллектуальных хитов.Середина 60-х. Сонный южноамериканский городок Александрия потрясает страшное и бессмысленное преступление: десятилетнего Робина Клива находят повешенным во дворе его собственного дома в разгар христианского праздника День матери. Преступник не оставляет ни улик, ни примет. Единственными свидетелями оказываются младшие сестры убитого -- Алисон и Хариетт: одной едва исполнилось четыре года, вторая не вышла из грудничкового периода. После трагедии некогда большая семья разваливается: мать не выходит из депрессии, отец сбегает, родовое гнездо уходит с молотка. По прошествии 12 лет младшая из сестер, вооружившись Стивенсоном и Конан Дойлем, берется расследовать давнее преступление.
«Маленького друга» Тартт написала в 1992-м, сразу после ставшей мировым бестселлером «Тайной истории». Следует сразу оговориться: многочисленные поклонники The Secret History могут испытать разочарование, вторая книга умненькой американки написана в куда более сумеречных тонах, за этим полумраком детективные детали и психологические головоломки теряются. Если в «Тайной истории» Тартт лишь заигрывала с эзотерическими сюжетами, ориентируясь скорее на популиста Джона Фаулза, чем на «темные» тексты эллинистических мистиков, то ключ к разгадке «Маленького друга» выложила у всех на виду.
На первой же странице обнаруживается цитата из «Суммы теологии» Фомы Аквинского «Самые скудные познания, которые можно получить о высоких материях, гораздо ценнее точнейших сведений, полученных о вещах низких». Проницательному читателю достаточно этого силлогизма, чтобы в дальнейшем не испытывать иллюзий, будто замаскированный под детектив роман Тартт в действительности окажется тем, чем прикидывается. В этом смысле The Secret History оказалась жанрово более цельной и честной: там читателю обещали интеллектуальный триллер с элементами «кампусного» романа, на выходе он именно это блюдо и получил -- пусть слегка и перенасыщенное мутящими разум приправами.
В «Маленьком друге» Донна Тартт позволяет себе шаманить по полной программе: то подбросит в эпицентр сюжета мертвую птицу, то устроит пожар в баптистском храме, то превратит городского дурачка в мрачного пророка. Но сумрачный колорит этой истории придают не экзальтированные жесты и резкие детские проказы. В «Маленьком друге» Тартт решается говорить не о локальном преступлении, а о некоем глобальном зле, невидимыми нитями опутавшем с виду благополучный мир. В этом смысле мифическая южноамериканская Александрия, то и дело пылающая пожарами классовой и межнациональной вражды, выстроена на мифологических обломках легендарной эллинистической столицы и одновременно является и городом-побратимом линчевского «Твин Пикса». Американка Тартт умудряется пустить в работу и историю собственной страны, так что в постепенно раскрывающемся глобальном конфликте ясно проступают тени давней вражды Севера и Юга и даже слышатся голоса легендарных героев «Унесенных ветров». Тартт вообще пишет очень литературоцентричные тексты, недаром ее героями становятся хронические книгочеи, а местом битвы -- захудалая провинциальная библиотека, по иронии носящая звание Александрийской. В этом коконе из цитат и исторических намеков легко затеряться случайному прохожему, но Донна Тартт умело прокладывает свой маршрут к черному Вигваму. На помощь путнику приходят добродушные шекспировские ведьмы, замаскированные под тетушек главных героев. Именно они не позволяют вконец запутаться нити сюжета, подсказывая ответы на невозможные вопросы: «В мире есть неисчислимое множество вещей, которые мы не понимаем, дорогая, и есть скрытые связи между вещами, которые совершенно не кажутся связанными».
http://www.vremya.ru/2010/8/10/245756.html
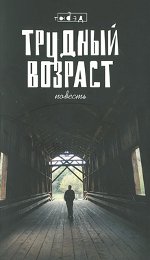 Первая повесть молодого писателя из поселка Хорогочи Тындинского района Егора Молданова. Только это не начало литературной деятельности, а почти конец. Егор умер в конце прошлого года, ему было 22 года.
Первая повесть молодого писателя из поселка Хорогочи Тындинского района Егора Молданова. Только это не начало литературной деятельности, а почти конец. Егор умер в конце прошлого года, ему было 22 года.Повесть «Трудный возраст» была отмечена премией «Дебют», вошла в длинный список премии «Большая книга». Молданов стал активно публиковать статьи, в том числе и у нас.
Торопился, рвался сказать, что хотелось.
«– На пол его! – скомандовал Буек. – Повеселимся от души. – И толпа душевно накинулась на меня, как стая голодных волков на жертву...»
В его архиве остались неопубликованные стихи и проза, значит, он жив, его еще будут печатать.
http://exlibris.ng.ru/five/2010-01-21/1_five.html?mthree=3
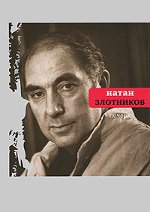 В предисловии к книге избранных стихотворений Натана Злотникова (1934–2006), более четверти века возглавлявшего отдел поэзии журнала «Юность», Евгений Евтушенко называет Натана Марковича «открывателем других поэтов»: «Его… невольно заслоняла толпа тех, кого он сам выдвигал на авансцену, и, несмотря на пятнадцать выпущенных им книг, он оставался невидим за молодыми спинами». Хотя лирический дар самого Злотникова несомненен, в чем убедятся читатели «Почерка»: «По высохшим, по золотым, по медным/ Бредем листам./ Любимая, давай помедлим/ И здесь, и там./ Еще нас ждут за облаками/ Снега зимы./ Но ведь не зря же привыкали/ К друг другу мы./ Пусть мусор с праздничной листвою/ Составил смесь./ Мы дышим небом и Москвою –/ И там, и здесь».
В предисловии к книге избранных стихотворений Натана Злотникова (1934–2006), более четверти века возглавлявшего отдел поэзии журнала «Юность», Евгений Евтушенко называет Натана Марковича «открывателем других поэтов»: «Его… невольно заслоняла толпа тех, кого он сам выдвигал на авансцену, и, несмотря на пятнадцать выпущенных им книг, он оставался невидим за молодыми спинами». Хотя лирический дар самого Злотникова несомненен, в чем убедятся читатели «Почерка»: «По высохшим, по золотым, по медным/ Бредем листам./ Любимая, давай помедлим/ И здесь, и там./ Еще нас ждут за облаками/ Снега зимы./ Но ведь не зря же привыкали/ К друг другу мы./ Пусть мусор с праздничной листвою/ Составил смесь./ Мы дышим небом и Москвою –/ И там, и здесь». http://exlibris.ng.ru/five/2010-01-21/1_five.html?mthree=3