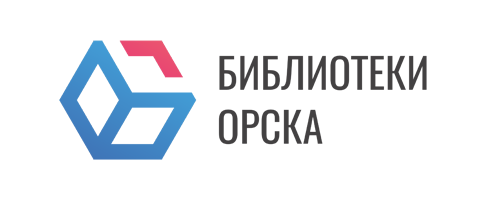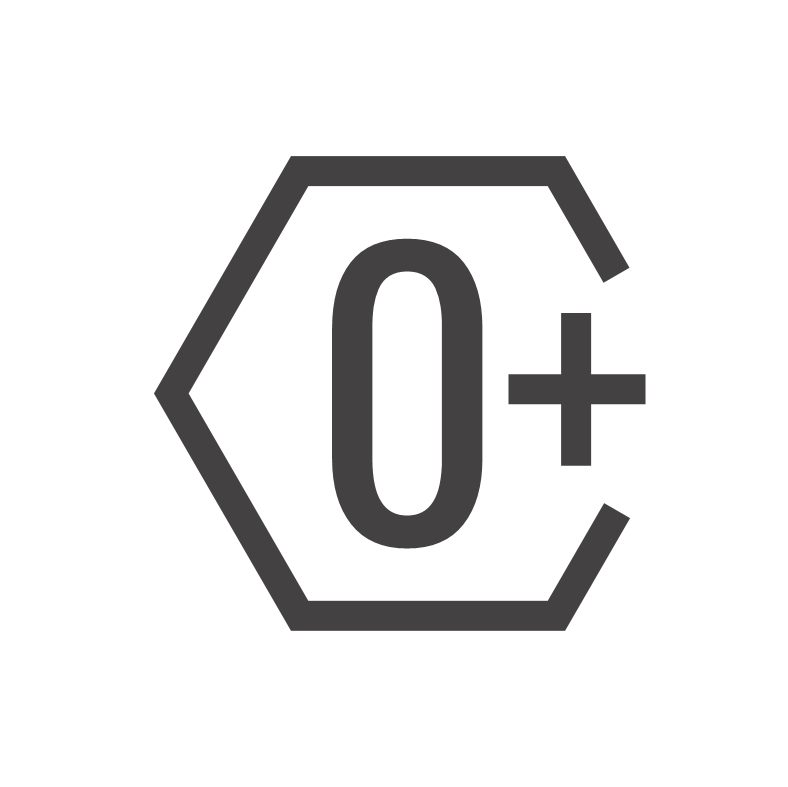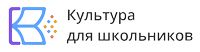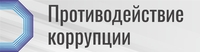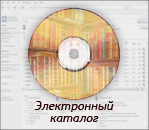Советуем почитать
Советуем почитать
 Роман «Семья Машбер» написан на идиш советским писателем Пинхасом Кагановичем, работавшим под псевдонимом Дер Нистер («нистер» на иврите — «скрытый»). Книга была закончена в середине 1940-х, журнальные публикации появлялись в советской идишской периодике, первая часть даже выходила отдельной книгой. На английский роман Дер Нистера уже давно переведен известным американским автором Леонардом Вулфом, но на русском роман не издавался до сих пор.
Роман «Семья Машбер» написан на идиш советским писателем Пинхасом Кагановичем, работавшим под псевдонимом Дер Нистер («нистер» на иврите — «скрытый»). Книга была закончена в середине 1940-х, журнальные публикации появлялись в советской идишской периодике, первая часть даже выходила отдельной книгой. На английский роман Дер Нистера уже давно переведен известным американским автором Леонардом Вулфом, но на русском роман не издавался до сих пор. «Семья Машбер» — это как если бы Максим Горький стал бы описывать мир Марка Шагала и Исаака Башевиса-Зингера. Дело здесь не в идеологии, не в социальной ангажированности, а в принципиально приземленном, никогда не удивляющемся взгляде: вот тут люди над городом летают, тут керосином торгуют, тут деньги в рост берут, тут Тору читают, тут черт на крыше сидит — и из всего этого складывается жизнь, и мы ее будем описывать.
Роман поражает и как-то даже задевает этой абсолютной и, главное, совсем непривычной при рассказе о еврейском мире и еврейской судьбе авторской нейтральностью. Дер Нистер в отличие от Зингера не проникается мистическими настроениями вместе со своими героями и в отличие от Шолом-Алейхема не иронизирует — он повествует с максимальным усилием достоверности, не умиляясь и не злорадствуя. История крушения купеческой семьи Машбер, жившей в конце XIX века в городе Бердичеве, разворачивается перед нами длинным свитком, свидетельством — даже не как у напрашивающихся вроде бы здесь в качестве сравнения мастеров семейных крахов Эмиля Золя и Томаса Манна, а как в какой-нибудь исландской саге.
Впрочем, жители Бердичева с их религиозной законсервированностью, сложнейшими иерархическими взаимоотношениями, исступленными танцами и неудобными одеждами представляются совсем не менее экзотичными, чем древние викинги. Как раз среди них автор провел свое детство и юность. Пинхас Каганович родился в 1884 году в Бердичеве в семье торговца копченой рыбой, «в благополучной хасидской семье», как формулирует автор предисловия к русскому изданию «Семьи Машбер» Михаил Крутиков.
В 1905 году Пинхас Каганович переехал в Киев. Там он познакомился с группой молодых еврейских авторов (в частности, с Давидом Бергельсоном и Львом Квитко) и начал сочинять рассказы. После революции нашел работу в Москве, вернее, в Подмосковье в еврейской трудовой школе-колонии для беспризорников «III Интернационал» в Малаховке. С одним из коллег — учителем рисования Марком Шагалом у него завязалась дружба, правда, скорее мучительная, чем радостная.
В начале 1920-х практически одновременно с Шагалом Дер Нистер уехал в Европу. В 1926 году вернулся в СССР. Зарабатывал в основном переводами и журналистикой. В 1942-м в блокадном Ленинграде погибла его дочь. К концу войны писатель закончил работу над своим главным произведением — романом «Семья Машбер». В 1949-м в рамках антикосмополитической кампании Дер Нистер был арестован. Летом 1950-го он умер от заражения крови в тюремной больнице.
Эта судьба — такая несчастная и такая обычная для своей эпохи — рифмуется с романом очень точно. История разорения и смерти бердичевского купца Мойше Машбера, преданного мужа и отца и удачливого, как казалось, коммерсанта, то есть человека совсем обычного,— это история Иова, но совсем не праведника и готового на все страстотерпца, а именно что совсем обычного. Русская история XX века делала таким Иовом практически каждого.
Анна Наринская
http://www.kommersant.ru/doc-rm.aspx?DocsID=1376269
 Шведы тоже шутят
Шведы тоже шутятШведская универсалка (писательница, актриса и журналистка) сочинила роман, который вошел в десятку самых продаваемых в Европе книг и спустя год был экранизирован. В одноименном фильме сама же Мартина Хааг исполнила главную роль.
Героиня этой истории — неудавшаяся актриса, постоянный клиент биржи труда и получатель пособий по безработице — соглашается на лицедейство в любой его форме. Перед читателем Белла появляется в запыленном костюме Деда Мороза, который спустя несколько страниц меняет на шляпу Матушки-Театра (персонажа детской эротической драмы), а в перспективе ей маячит красное трико Большой Вены из «Сказки о белых и красных тельцах». Но до трико дело не доходит, поскольку накануне своего 35-летия (после которого об актерской карьере можно забыть) барышня решает изменить жизнь и рассылает резюме в ведущие театры Швеции.
Пара десятков страниц ожидания уходит на рекламу средства от молочницы и выяснения отношений с матерью. Наконец из шведского Национального театра приходит ответ: она приглашена на кастинг. Не веря свалившемуся на голову счастью, героиня мчится на прослушивание, где выясняется, что она как две капли воды похожа на ведущего театрального актера национальной труппы — вот только тот лет на двадцать старше и килограммов на десять весомей. Белле предлагают роль Виолы (сестры-близнеца героя) в шекспировской «Двенадцатой ночи». Ставить спектакль будет сам Ингмар Бергман, специально для этого покинувший свое убежище на острове Фаре. Чтобы заключить заветный контракт, героине надо перекрасить волосы в цвет седины и освоить несколько акробатических элементов, что для профессиональной гимнастки раз плюнуть (а в резюме значится, что она и есть самая настоящая гимнастка). Не моргнув глазом, Белла подписывает контракт, не упоминая о том, что информацию про свои акробатические навыки добавила для красного словца: «Надо же мне что-то было написать в графе «особые навыки».
В театре начинаются репетиции, по ходу которых барышня должна освоить сальто, мун-кик, корд-де-волан и пару номеров воздушной акробатики, выдержать конкуренцию с лучшими актерами страны и не запутаться в сетях закулисных интриг.
Мартина Хааг написала до слез уморительный роман, в котором помимо удачных шуток подкупает еще и отличное знание материала. Писательнице, видимо, самой не чужд опыт неудачливой актрисульки среднего возраста: переживания и комплексы героини описаны так точно, как если бы были законспектированы на сеансе у психоаналитика. Еще забавнее выглядит закулисный мир национального театра, где имя Бергмана произносят шепотом, в то время как сам маэстро не появляется ни на одной репетиции. Зато на собрании труппы зачитывают его послание: «Дорогие коллеги! На закате жизни на меня внезапно снизошло озарение — теперь я знаю, как нужно ставить «Двенадцатую ночь». Как приключенческую драму!» В зале повисает благоговейная тишина. Все замирают. Дух Бергмана парит между нами».
Мартина Хааг позволяет себе смеяться не только над «священными коровами» национальной культуры; на орехи достается всем: актерам, журналистам, режиссерам, чиновникам из социальных ведомств и работникам сферы обслуживания. А в тот момент, когда читатель на волне положительных эмоций ждет законного хеппи-энда, писательница умудряется осмеять и эти ожидания. Так что роман шведки только звучит легкомысленно — как однодневная безделка, а на самом деле оказывается очень мастеровитой комедией. В которой, кроме всего прочего, высмеяна и пресловутая шведская серьезность. Не «Двенадцатая ночь», конечно, но смешно очень.
Наталия БАБИНЦЕВА
http://www.vremya.ru/2010/81/10/253625.html
 Усадебный детектив
Усадебный детективВ «Старосветских убийцах» Валерия Введенского даже трупы вскрывают с оглядкой на русскую классику
Опрос, проведенный ВЦИОМ, обнаружил: 16% российских читателей любят книги современных авторов о дореволюционной России. Детектив Валерия Введенского как раз для них — любителей русской старины во всем ее живом разнообразии.
Ключевые события романа происходят в усадьбе князя Северского, в которой по случаю свадьбы хозяина и по стечению обстоятельств собрались все русские типажи. В списке действующих лиц станционный смотритель, честный доктор-патологоанатом (он-то и раскрывает все преступления), дубоголовый урядник, благородный генерал, мечтательный юноша, шулер, приглуповатый иностранец — американский этнограф, специалист по диким странам, при нем сотрудник Третьего отделения. Лакеи, горничные, конюхи. Персонажи этого несколько перенаселенного русского театра предаются обычным национальным развлечениям. Тут вам и охота на вепря, и штосс, и дуэль в ночном парке, и любовные письма в дупле, и гарем дворовых девушек — словом, «повседневная жизнь дворянства пушкинской поры» со всеми ее приметами, суевериями и семиотикой.
Кстати, о последней. Роман предварен уморительным для книжки подобного жанра списком использованной литературы, в котором среди прочего значится «Песнь о вещем Олеге», энциклопедия «Быт пушкинского Петербурга», а также работы Пыляева, Лотмана, Гордина и других специалистов по дуэлям, балам и великосветским обедам.
Эта шутливая библиография — подмаргиванье «своим», которым весело ощущать себя не просто глотателями детектива, но и соучастниками почти научного исследования тихого омута русской жизни позапрошлого века.
Роман открывается сценой вскрытия трупа, выписанной, однако, с юмором, но без кощунства. Да, мир «Старосветских убийц» уютен, несмотря на кровавые преступления, потому что сотворен из старой доброй русской классики, а значит, ужасы его безопасны и наивны. Неудивительно, что и изобретательный убийца, который то цианистого калия подсыплет в шампанское, то толкнет удушенную жертву в пруд, то схватится за топорик, чисто по-русски оказывается преступником поневоле и почти страдальцем.
Только вот чем же, спросите вы, «Убийцы» отличаются от фандоринского цикла Бориса Акунина, который давным-давно запатентовал бренд «детектив в интерьере ХIХ века» и обрек любого ретро-детективщика на обвинения в эпигонстве?
Безусловно, «Старосветские убийцы» — ягода соседнего с акунинским поля. И все же Валерий Введенский (о нем издатели не сообщают ни слова, но что-то очень уж это имя смахивает на псевдоним) пишет иначе, с задором и тщанием новичка, который с видимым удовольствием разбирался в различиях между дормезом, пролеткой и линейкой, изучал анатомические атласы и сорта французских вин, любимых русскими офицерами.
И еще всеми силами противостоял извечной русской тоске, разлитой, кстати, и в акунинских романах. А потому каждый труп в финале уравновесил свадьбой, союзом любящих сердец. В общем, перед нами доброкачественное дачное чтение, книжка, листать которую следует в беседке, увитой плющом.
Майя Кучерская
 Это невероятно вдохновляющая история: человек всю жизнь пишет стихи — их практически никто не хочет читать, он пытается писать прозу, но, начав, каждый раз почти сразу же бросает. Точно так же он бросает университет, должность в литературном журнале, практически все работы — даже ту, которую сам считает лучшей: собирание устриц и мидий для ресторанов в Южной Каролине. И вот уже шестидесяти шести лет от роду он пишет недлинный текст, текст, в котором нет ни грана компромисса или конъюнктурности,— и эта книга становится бестселлером.
Это невероятно вдохновляющая история: человек всю жизнь пишет стихи — их практически никто не хочет читать, он пытается писать прозу, но, начав, каждый раз почти сразу же бросает. Точно так же он бросает университет, должность в литературном журнале, практически все работы — даже ту, которую сам считает лучшей: собирание устриц и мидий для ресторанов в Южной Каролине. И вот уже шестидесяти шести лет от роду он пишет недлинный текст, текст, в котором нет ни грана компромисса или конъюнктурности,— и эта книга становится бестселлером. "Фирмин" Сэма Сэвиджа даже более популярен в Европе, чем в Америке. В Италии, например, он известен настолько, что статья о нем в газете La Repubblica начинается словами: "Все, конечно же, знают Фирмина или хотя бы слышали о нем". При этом Фирмин — создание не самое привлекательное, да и объясняется он не то что бы очень просто, хотя, вообще-то, чего ждать от персонажа, выросшего на "Поминках по Финнегану".
Выросшего — в прямом смысле слова. Фирмин — крысенок, а из страниц джойсовского романа, порвав их предварительно в клочья, его мамаша соорудила гнездо для себя и своего потомства. Располагается этот бумажный домик в подвале книжного магазина в трущобном районе Бостона, а дело происходит в 1960 году, как раз перед тем, как всю эту округу с магазинчиками, дешевыми кинотеатрами, ночлежками и барами отдадут под снос.
Старый квартал, конечно, жалко. Но не ждите ничего нравоучительного. Просто жалко — и все. Поучительного или обучающего тоже не ждите. Да, возмужавший в книжном магазине Фирмин вполне ожидаемо становится книгочеем (вернее, сначала книгоедом, потом — книгочеем), но его творение — это не дайджест мировой словесности по типу того, как раскрученный "Мир Софии" Юстейна Гордера является дайджестом философии. Это предельно искренняя история существа одинокого настолько, что литература оказывается единственным собеседником и даже единственной надеждой.
Вот он, несчастный, лохматый, хромоногий и голодный, берется за свое произведение: "Мне всегда представлялось, что история моей жизни, буде и когда я ее напишу, начнется несравненной вводной строкой, эдаким чем-то таким лирическим вроде набоковского "Лолита, свет моей жизни, огонь моих чресел"; или если на лирику не потяну, тогда чем-то забористым, как у Толстого: "Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему". Каждый помнит эти фразы, даже если начисто забыл, что там дальше написано". Густо-литературное вступление совсем не значит, что Фирмин пишет "книгу о книгах". Этот пассаж, кстати, кончается вот как: "Нет, вы только полюбуйтесь, как я начал мой последний труд, мое творение: "Я всегда представлял себе, что история моей жизни, буде и когда..." О Господи, "буде и когда"! Ну! Видали? Полная безнадега. Вымарать". (Тут самое время отметить, что на русский "Фирмин" блистательно переведен Еленой Суриц.)
Эта книга — сентиментальное путешествие в "полную безнадегу", в полную крысиную безнадегу, причем — и это самое лучшее — крыса здесь совсем настоящая (ну разве что умеющая читать и влюбляющаяся в людей, вернее, в давно умерших кинозвезд), но в то же самое время это та крыса, которой хотя бы раз в жизни побывал каждый из нас. Это та крыса, которой ощущаешь себя, когда глядишь в окно и понимаешь, что вот это — совсем не тот мир, в котором ты должен был бы родиться.
В том, как автору удалось две эти крысиности совместить,— удивительный, волшебный какой-то фокус. В этом, безусловно, есть искусство, но совсем нет мастерства. В одном из многочисленных интервью, розданных после того, как "Фирмина" постиг неожиданный успех, Сэвидж признался, что сначала сам не знал, от имени какого существа он пишет: "Сначала пришел голос. Я услышал его и напечатал несколько страниц — я еще не знал, что это крыса. На следующий день, я вдруг понял, кто это. Не скажу, чтоб это меня обрадовало". Романы так не пишутся. Так пишутся стихи. И, может, в этом и есть секрет "Фирмина" — в прозе почти уже нельзя сказать ничего нового. В поэзии можно.
Анна Наринская
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1363266&NodesID=8
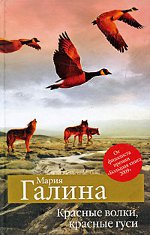 Сборник малой прозы номинанта «Большой книги» Марии Галиной «Красные волки, красные гуси» – это такая история с переодеванием. Десятилетие публиковавшиеся по ведомству фантастики вещи, впервые собранные вместе под обложкой современной прозы, ею в общем-то и оказались.
Сборник малой прозы номинанта «Большой книги» Марии Галиной «Красные волки, красные гуси» – это такая история с переодеванием. Десятилетие публиковавшиеся по ведомству фантастики вещи, впервые собранные вместе под обложкой современной прозы, ею в общем-то и оказались.Жанры как касты. Или ведомства. Попадешь раз в писатели-детективщики или фантасты – всю жизнь потом не отделаешься. Будешь публиковаться в ведомственных антологиях современной фантастики и журнале «Если». Что, собственно, и произошло с прозой Марии Галиной, отрезанной корпоративным барьером от не любителей жанра фантастики, казалось, навсегда.
Оказалось – нет. Не в простом переодевании, конечно, дело. Если бы в сочинениях Галиной литература была прикладной (через запятую: «а еще это литература»), наверное, ничего такого неожиданного и не случилось бы.
Впрочем, у Галиной и фантастика к литературе не прикладывается. Она, если судить по «Красным волкам», в цеховики-фантасты вообще угодила по ошибке и обманчивому сходству. Метафизический реализм Мамлеева и железнодорожные сказки Славниковой ей ближе, чем инопланетные хитрости авторов-фантазийщиков.
Версия с иномиром и инобытием, встреча с которым для галинских героев предопределена и, как правило, трагична, лишь версия. Часто эти рассказы рождены метафорой. На самом деле нет у Галиной никакого иномира.
Мир один, но не един. Источник тревоги в предчувствии последствий несовпадений. Жизнь под угрозой неопределенности: все, что ты видишь и ощущаешь, есть иллюзия и ошибка. Или напротив: в ирреальном мире существуют те, кто ощущает себя « в норме». Лавировать можно лишь до поры. Столкновения чреваты неприятностями.
Метафорическая или притчевая эта проза, но растет она все равно на реальной и обыденной почве. Снимая слои краски, дойдешь и до полотна. Проторассказы Галиной, как правило, из одного материала. При этом фантастичность вполне может быть и приемом, обманным, но понятным источником напряжения, маскируя его истинные причину и сущность.
В «Заплывая за буйки» хрестоматийный эффект бабочки отдан во власть читателю. Человек, читая, изменяет канонический текст. Следом меняется мир. Если в гётевском «Вертере» после прочтения обладателем случайного дара героиня делает бутерброды из черного хлеба, значит вся история за два с половиной века встает с ног на голову. Читатель, изменяющий мир, есть насмешка и мечта. Но, перекроив с помощью измененного текста географию вплоть до присоединения к СССР Турецкой социалистической республики, герой не может избежать банального уличного удара ножом. Чудо годится лишь на то, чтоб доказать юному историку, намеренному бежать от страхов жизни за границу, что от перемены мест континентов личная судьба не меняется.
Мир к Галиной враждебен. Особенно враждебна любовь. Она принимает разные обличия, затягивает, парализует. Высасывает, использует. Любовь – спрут, как в истории уничтожающей страсти некоего Ивана Сергеевича к роковой женщине. Сергеич в финале оказывается Тургеневым. Полина Виардо – посланцем мирового женского спрута. В притче «И все деревья в садах…» любовь – единственное, чем может охмурить опытного землянина некая пришлая жизненная форма, которая запускает свои споры в человека и обращает его в ходячую мандрагору. В «Кратком пособии по животноводству...» любовь собак порабощает их хозяев, из всех вариантов судьбы оставляя лишь жалкую участь городских сумасшедших. В рассказе «В конце лета» средне благополучную пару едва не убивает любовь нерожденного ребенка.
Мир таков, каким мы способны его видеть. Предлагаются на выбор гармонии – реальная, желаемая, поэтическая. Последняя совершенна. Дана в ощущениях поэтам, детям, высшему разуму. Что вовсе не означает всеобщей благости, согласия и любви.
В щенке рыжей дворняги натуралист и конформист, автор благостных заметок, изданных для пионеров «Детгизом», видит будущего верного помощника пастуха. В реальности он видит куда больше в этой своей среднеазиатской экспедиции. В самобытном леснике – пропившегося развратника, принуждающего к сожительству девочку-подростка, а в приблудном щенке – редчайшего зверя, красного волка. Аборигенка же Уля видит в своем мучителе оборотня, в деревенских стариках – посланцев темных сил и придумывает себе спасителя, рожденного красной уткой и волком. Спорить с ней ученому-зоологу, убивающему редких животных, чтобы сделать из них чучела, бессмысленно.
Его материальный, объяснимый, привычный и лживый мир, столкнувшись с миром ребенка, мгновенно капитулирует. Ученый принужден спасаться от оборотня и от теней зла и возлагать надежды на царя среди собак, которому в этом нищем крае отдают последнее и должное.
Каждому не по вере, но по видению его. Поэты создают образы, не ограничиваясь воображением. Рано или поздно они выходят за грань – фантазии материализуются. Фантазеров обвиняют в убийстве или пытаются взять на службу государству, планируя с помощью русалок и водяных построить общедоступный уют.
Все это, впрочем, временно, успокаивает Галина. Дети, вырастая, забывают свой мир начисто и превращаются во взрослых, спящих в вагонах поезда, который тысячу лет никуда не идет. И только последние читатели последних поэтов находят странное удовольствие в питании синими грушами и сражениях с тигром, который при ближайшем рассмотрении оказывается самой обычной, хотя и надоедливой, осой.
Владимир Цыбульский
http://gazeta.ru/culture/2010/05/06/a_3363441.shtml