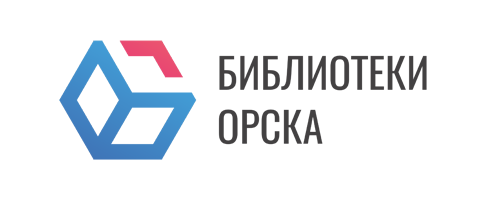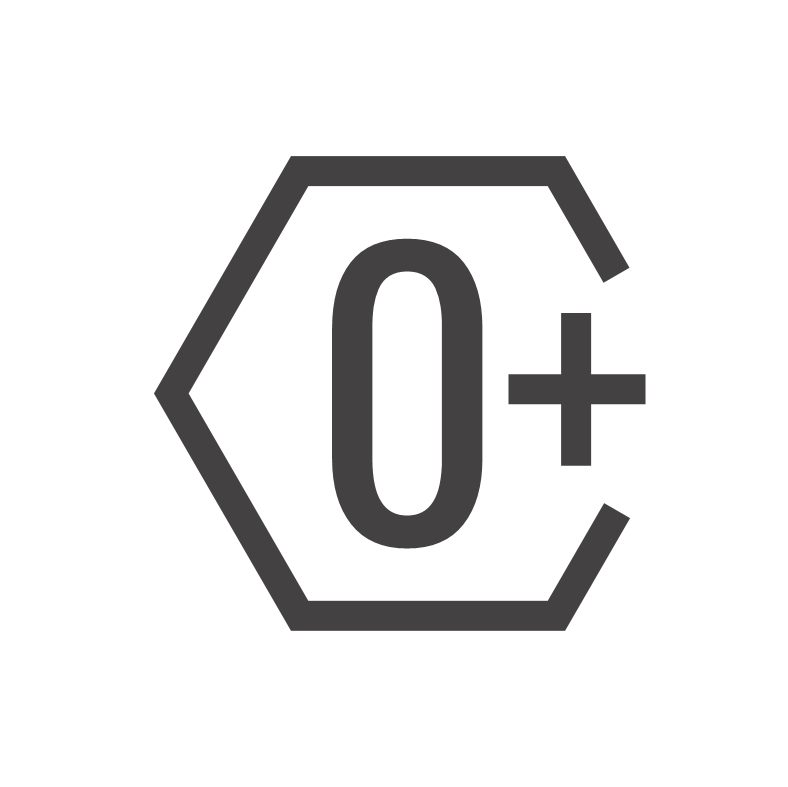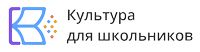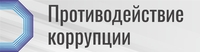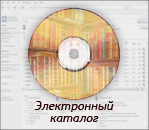Советуем почитать
Советуем почитать
 Произведения, которые создает Леклезио, хороши прежде всего тем, что заставляют вас изменить взгляд на вещи, казавшиеся раньше такими обыденными, что вы их как бы не замечали. Взять, например, солнце или пролетающие дни, или гудение насекомых. В этот же ряд он может поставить улыбки родителей, дружбу, любовь и музыку. Его книги как калейдоскопы с десятками узоров: если смотреть в них, то очень многое превращается во что-то яркое – как будто туман рассеивается. И это приободряет. Невзирая на то, что он рассказывает о человеческой потерянности, детском страхе или общем горе – о том, что всегда сопровождает все войны. «Блуждающая звезда» – роман о двух девочках, еврейке Эстер и арабке Неджме, которые знакомятся в Израиле, по дороге в лагерь палестинских беженцев, куда обе бегут вместе с близкими. «Знакомятся», значит, обмениваются именами, записывая их на черных тетрадках друг дружки. Больше им не суждено будет увидеться: последствия войны. Останутся только воспоминания на всю жизнь и выведенные большими буквами два одинаковых имени: оба переводятся как «звезда».
Произведения, которые создает Леклезио, хороши прежде всего тем, что заставляют вас изменить взгляд на вещи, казавшиеся раньше такими обыденными, что вы их как бы не замечали. Взять, например, солнце или пролетающие дни, или гудение насекомых. В этот же ряд он может поставить улыбки родителей, дружбу, любовь и музыку. Его книги как калейдоскопы с десятками узоров: если смотреть в них, то очень многое превращается во что-то яркое – как будто туман рассеивается. И это приободряет. Невзирая на то, что он рассказывает о человеческой потерянности, детском страхе или общем горе – о том, что всегда сопровождает все войны. «Блуждающая звезда» – роман о двух девочках, еврейке Эстер и арабке Неджме, которые знакомятся в Израиле, по дороге в лагерь палестинских беженцев, куда обе бегут вместе с близкими. «Знакомятся», значит, обмениваются именами, записывая их на черных тетрадках друг дружки. Больше им не суждено будет увидеться: последствия войны. Останутся только воспоминания на всю жизнь и выведенные большими буквами два одинаковых имени: оба переводятся как «звезда».Леклезио обожает язык таинства. Загадка для него, как начинка в пироге: сразу не скажешь, какая она и есть ли вообще, – поймешь, только если попробуешь раскусить. Загадками полны пустынные пещеры, зеленые долины, солнечный свет, невозможно-синее небо, пение и музыка ветра, а также слова, лес, пламя свечей, сумрак и взгляд черных глаз. И, пожалуй, это может смутить – чувство дежавю: будто каждое сказанное слово – крик, смех, шепот или стон – отзывается в вас странным эхом, повторяясь два-три-четыре раза, в зависимости от того, сколько других книг автора вы прочитали. Если эта не первая, тогда ничто не покажется чужим, непонятным, но и новым – тоже. Впрочем, это не означает, что «старое» не способно встревожить, просто Леклезио не любит «перестраиваться».
Иногда его рассказ как бы ныряет, как дорога в горах, по которой движутся герои, и это делает его похожим на легенду. Вот он пишет о том, как Эстер с матерью спасались бегством от немецких солдат вместе с другими беженцами-евреями, – и они словно парят над землей: сквозь ущелья, по склонам и тропкам, скорее – к итальянской границе. Все, что они видят в пути, видите и вы: это как огромные цветные фотографии на выставке в галерее. Такие багрово-сине-зеленые пейзажи поражают воображение: плывут и рвутся, и стекают ручейками – гипнотизируя, точно змеи, своих жертв. Леклезио умеет создавать ощущения, рисуя картины так, что вы кожей, кончиками пальцев, носом чувствуете то, о чем он пишет. И какой бы ни была его тема, это всегда похоже на поэтическое приключение: с помощью слов он собирает в дорогу своих героев, вас и сам идет следом, однако там, где все в итоге оказываются, слова как таковые обычно не имеют значения. Главное – ощущения, из которых рождаются чувства, а из них – мысли. Здесь, в этом романе, ему нужно, чтобы вы, как те люди, подумали: «Было страшно, но так красиво!». Их почти всех потом настигнут солдаты вермахта и отправят в лагеря смерти – вычеркнут из памяти, и останутся только те самые удивительные и грозные природные картины, словно просившие прощения, которые они увидели по дороге, думая, что почти дошли, что бояться больше нечего, что война вот-вот кончится.
Вера Бройде, «Книжное обозрение», №11, 2010
 Есть такие дети, которые просто не в состоянии ездить на велосипеде спокойно: руки на руле, ступни на педалях, скорость – средняя. Они нарушают правила, чтобы не было скучно. Как писатели, которые обожают экспериментировать с литературными жанрами и стилями. Таких не очень много. Еще меньше тех, у кого это получается интересно. Но чтобы выполнить оба условия в одном романе, а не на протяжении долгой творческой жизни – да... мало быть хорошим велогонщиком. Надо носить желтую майку лидера – надо быть Раймоном Кено!
Есть такие дети, которые просто не в состоянии ездить на велосипеде спокойно: руки на руле, ступни на педалях, скорость – средняя. Они нарушают правила, чтобы не было скучно. Как писатели, которые обожают экспериментировать с литературными жанрами и стилями. Таких не очень много. Еще меньше тех, у кого это получается интересно. Но чтобы выполнить оба условия в одном романе, а не на протяжении долгой творческой жизни – да... мало быть хорошим велогонщиком. Надо носить желтую майку лидера – надо быть Раймоном Кено!А теперь, как пишет он сам, – «Смена времени. Смена места». В одно парижское кафе в 20-х годах прошлого века приходили две компании: одна состояла из трех стариков, другая – из студентов. Они заказывали перно или кофе, играли в бильярд или пикет, но больше – болтали. Не каждый день, конечно, но часто – так часто, что можно было подумать, будто этому не будет конца. Все шло по кругу, как представление, как цветной диафильм. И был, разумеется, человек, который крутил рукоятку. Этот человек много повидал. Он был психолог. Он был философ. Никто и не подозревает, сколько может знать о мире старый официант кафе. Альфред подает напитки: кому – вино, а кому – молоко. Но то, что он слышит, и то, что он видит, пока принимает заказы или зевает у барной стойки, нисколько не влияет на то, что он думает. А он, наблюдая сезонные перемены, думает: «О, сейчас повторится то, а затем вот то». И все именно так и происходит. В этом он очень похож на синоптика из фильма «День сурка». Даже война, даже эпидемия испанки, даже эйнштейновская теория относительности не застанет его врасплох. Героя Билла Мюррея, правда, ошарашила любовь, но ведь на то он и был синоптиком: с временами года у него сложились не простые, а профессиональные отношения. А здесь действует, точнее, бездействует, официант. Любовью, равно как и природным круговоротом, его не возьмешь. «Я – неподвижен», – говорит Альфред, пока вокруг вращаются блюдца, бутылки с аперитивом и люди. – «Я стою на месте, это они совершают круг и возвращаются. Их это более-менее устраивает». Обновляется ведь не только природа – как ее преподают школьные учителя. Обновляются люди: одни уезжают, другие приезжают, старики умирают, молодые стареют. Они и не подозревают до поры до времени, что, кроме повторений, в жизни всегда что-нибудь бывает последним.
Поэтому каждое слово, которое Кено выбирает, прежде чем написать, он вначале осторожно ставит на сверхчувствительные весы. Оно может быть причудливым (как «кенокаут», или «дьяволоскептическая усмешка»), но только не случайным. И каждый его повтор – такой же преднамеренный и выверенный. А если учитывать, что рассказывают о событиях шестеро завсегдатаев кафе, их знакомые и один внимательный официант, то роман становится похож на совместное творчество дюжины братьев-близнецов, у каждого из которых своя профессия. Первую главу написал художник-сюрреалист, вторую – поэт-кубист, одну доверили киносценаристу, другую – студенту философского факультета. И чем дальше – тем занятнее. Потому что при всей неповторимости каждой части они слеплены из одного материала: может, отцы у близнецов были и разные, но мама – одна.
Дира Альмайер, «Книжное обозрение», №11, 2010
 Конспект самой себя
Конспект самой себя«Вчера я спрашивала себя, что будет со всеми моими дневниками. Если я умру, что Лео сделает с ними? Ему не захочется жечь их; но он не сможет их опубликовать. Полагаю, он выберет что-то из них и составит книгу, а остальные сожжёт. Смею заметить, книга получится небольшой, если все каракули и загогулины немного выпрямить. Ну да Бог с ними.»
Так писала она за 15 лет до своей добровольной смерти.
Вирджиния оказалась права: недаром они с мужем всегда так хорошо понимали друг друга. Почти права: после её самоубийства у Леонарда Вулфа всё-таки не поднялась рука жечь её тетради. Но ему действительно пришлось трудно. Это были совсем личные, беззащитно-откровенные – и конспективно свёрнутые — тексты очень ранимого, трудного для самого себя и чрезвычайно своеобразного человека. Практически – хроники внутренней жизни, менее всего озабоченной тем, чтобы укладываться в рамки чьих бы то ни было ожиданий. Она писала как бы конспект самой себя, всего сразу, возникающего одновременно, нераспутываемого — и «литературного», и «жизненного» (а для неё границы и не было) — чтобы потом разворачивать, проговаривать это в жанрах более канонических, созданных для дневного света и чужих глаз: в романах, рассказах, эссе — или в так называемой жизни.
Приводя тетради её записей в состояние, пригодное для публикации, Вулф принял самое простое по видимости решение: оставил только то, что имело отношение к литературе. К тому, что называется «литературной работой»: замыслы, писание, издание, продажа книг, отзывы читателей.
Книга и в самом деле получилась небольшая: меньше полусотни страниц за два с лишним десятилетия. Что бы Вулф ни оставил за рамками изданного, ясно: то, что оказалось опубликованным – вполне достойно названия самой сердцевины жизни.
Вообще говоря, складывается впечатление, что литература для этой жизни – не очень долгой, не слишком счастливой, так трагически закончившейся, но на редкость интенсивно прожитой жизни – была не просто смыслообразующим, но прямо-таки структурообразующим центром. Может быть, именно она-то и была настоящей жизнью – личные же отношения и бытовые обстоятельства, которые Леонард по возможности убрал, были скорее окраинами жизни и, главное, материалом для неё.
Именно поэтому совершенно убрать личное и бытовое Вулфу не удалось: многие куски внелитературной жизни, часто непонятные читателю (хотя бы — упоминание множества имён, ничего не говорящих нам – людям другого времени и другой культуры) должны были остаться, поскольку составляют здесь нерасторжимое целое с литературой как таковой, у них с нею общая кровеносная система.
У дневников, как известно, бывают разные жанры и разные задачи. У Вирджинии Вулф – один из редкостных, даже среди писательских. Это «дневник писательницы» не только (не в первую очередь) в том поверхностном смысле, что там много о литературе, но в том, что в нём шла работа с душевными массами, вовлечённым в «производство» литературы. Не морализаторское самонаблюдение и самоупорядочивание, как, скажем, у Льва Толстого, не запасание впрок зарисовок и мыслей для будущих текстов, но чуткое, бережное, чуждое насилию подстерегание душевной жизни в её собственных формах. Это отсюда родилась литература «потока сознания», приёмы которой поражали современников, а нам сегодня, как справедливо пишет в предисловии Екатерина Гениева, кажутся такими естественными.
Записи в дневнике были для Вулф средством внутреннего освобождения – неспроста она как-то обмолвилась, что они «ослабляют связи»; что в них она «разрабатывает собственные масштабы». То была лаборатория внутренней свободы – и обучения этой свободы стилистическим формам. Такое сочетание саморастормаживания и самодисциплинирования, в котором саморастормаживанию, высвобождению из социальных зажимов принадлежит всё-таки ведущая роль, а оформлению, стилю – вторичная, инструментальная. Когда Вирджиния Вулф написала в том же дневнике свою знаменитую теперь фразу: «Всё же я единственная женщина в Англии, которая вольна писать, что хочет», — у неё были на это основания, думается, прежде всего внутреннего порядка. Её дневнику мы обязаны как порождающему центру всех остальных её текстов – всеми её романами и тем преображающим воздействием, которое Вулф оказала на литературу ХХ века.
Ольга Балла-Гертман
http://www.svobodanews.ru/content/blog/2070419.html
 Именно «romans», во множественном числе: автор, изучая помещения девятиэтажного парижского дома (плюс «нулевой» этаж – подвалы и котельная), предлагает читателю более ста историй, каждую из которых можно было бы развернуть в объемистый роман. Получается паззл из детективных, семейных, исторических, любовных, философских, дорожных романов-карликов, ничуть не уступающих своим обычным собратьям. Межклеточным веществом служат огромные списки предметов, целые главы о подвальных вещевых залежах. Чтобы собрать головоломку, нужно обладать совершенной памятью и невероятной усидчивостью, некоторые совпадения и переклички, по словам Кислова, обнаруживаются только при повторном чтении, но Перек все-таки оставил нам ключи: план дома, в приложении – хронология событий, алфавитный указатель героев и перечень историй.
Именно «romans», во множественном числе: автор, изучая помещения девятиэтажного парижского дома (плюс «нулевой» этаж – подвалы и котельная), предлагает читателю более ста историй, каждую из которых можно было бы развернуть в объемистый роман. Получается паззл из детективных, семейных, исторических, любовных, философских, дорожных романов-карликов, ничуть не уступающих своим обычным собратьям. Межклеточным веществом служат огромные списки предметов, целые главы о подвальных вещевых залежах. Чтобы собрать головоломку, нужно обладать совершенной памятью и невероятной усидчивостью, некоторые совпадения и переклички, по словам Кислова, обнаруживаются только при повторном чтении, но Перек все-таки оставил нам ключи: план дома, в приложении – хронология событий, алфавитный указатель героев и перечень историй.Впрочем, главное, что не дает «Жизни» развалиться – одержимость, мастерство и страсть к собирательству, которую испытывают персонажи. Художник Вален мечтает изобразить подробнейший срез дома, со всеми жильцами, включая себя, он же обучил искусству акварели богатого англичанина Бартлбута, а тот, в свою очередь, пытается противопоставить «запутанной хаотичности мира» идеальный, цельный проект: в процессе кругосветного путешествия запечатлеть 500 портовых пейзажей, отправить домой, где талантливый ремесленник Винклер сделает из акварелей паззлы, по возвращении 20 лет собирать их, отклеивать от деревянной основы и последовательно уничтожать в местах создания. Или возьмем одну из побочных историй: об акробате, который сутками живет под куполом цирка и в итоге умышленно разбивается насмерть – настолько невыносимым казалось ему существование на земле.
Дом становится свидетелем крушения великих и мелких замыслов, а через какое-то время и сам пойдет на слом.
По «Жизни» разбросаны описания обманок, разных экзотических штуковин, странных картин. Акварельные паззлы – настоящее произведение искусства, их сборка сродни воскрешению вселенной: «В такие минуты Бартлбут видел, не глядя, как тонкие деревянные срезы с предельной точностью прикладываются один к другому... Это ощущение благодати иногда длилось всего несколько минут, и тогда Бартлбуту казалось, что он ясновидящий: он все замечал, он все понимал, он мог видеть, как растет трава, как молния попадает в дерево, как горы подтачиваются эрозией подобно какой-нибудь пирамиде...» Складные головоломные перстни и резные зеркальные оправы Винклера, кукольный дом, проработанный до мельчайших деталей, редкие книги, тройное распятие с черным ребенком, высоким стариком и голубем, скульптура из червячьих нор, залитых свинцом; красный скелет поросенка, этикетка коробки с камамбером: монахи смотрят на такую же коробку, а на ней та же сцена отчетливо повторяется четыре раза; используется и упоминается в тексте геральдический принцип «mise en abyme» (согласно примечанию Кислова, «часть гербового поля воспроизводит все поле целиком – и так далее до бесконечности»). В преамбуле – цитата из «Педагогических эскизов» Пауля Клее: «Глаз следует путями, которые ему были уготованы в картине». И действительно, «Жизнь» заставляет вспомнить его живописную мозаику «Дорога и проселки», паззл из множества цветных плоскостей.
Лесь Психарев, «Книжное обозрение», №11, 2010
 Удушенный крик
Удушенный крикК 100-летию Ольги Берггольц вышел ее «Запретный дневник», который она тайно вела с 1939-го по 1949-й. Если кратко: трагическая судьба, повитая кровавым кошмаром
Ольга Берггольц — поэт в последние годы как следует забытый, а до того затертый и опошленный до речевки, смысл которой вступает в глубокое противоречие с логикой ее судьбы. «Никто не забыт, ничто не забыто — девиз пионера, девиз следопыта». Про пионера и следопыта у Берггольц, само собой, не было ни слова. Все с годами оказалось переврано и как раз забыто.
Мы как-то уже привыкли к мемуарной и дневниковой прозе тех, кто все понимал, кто сразу не любил советскую власть, презирал коммунистов. А Берггольц сама была коммунисткой. «Первая барабанщица эпохи, и по ней же всей тяжестью своей эта железная эпоха», — едко, но точно написал о Берггольц Федор Абрамов. Ее первое опубликованное в петроградской газете «Красный ткач» стихотворение называлось «Ленин», в то время она была еще девочкой со светлыми косичками, но уже тогда ее заметил Корней Чуковский и предсказал ей большое литературное будущее. Ее первым мужем стал поэт Борис Корнилов. После его расстрела в 1938-м в песнях на его слова стали писать «слова народные». Но к тому времени Берггольц была уже женой Николая Молчанова; он погиб позже, в блокаду. В том же 1938-м она была арестована как «участница троцкистско-зиновьевской организации», провела в тюрьме полгода и потеряла там третьего, и последнего, ребенка. «Двух детей схоронила / Я на воле сама / Третью дочь погубила / До рожденья — тюрьма». Она была освобождена за недоказанностью состава преступления. И сразу же после выхода из тюрьмы потребовала восстановить ее кандидатом в члены ВКП(б)! Это не было лицемерием, это было отчаянной надеждой — вдруг все-таки получится? Но уже в марте 1941-го она записала: «У меня отнято все, отнято самое драгоценное: доверие к Советской власти — больше, даже к идее ее…»
От полной и последней раздавленности ее парадоксальным образом спасла война, блокада. Берггольц помогла Анне Ахматовой уехать из Ленинграда, а сама осталась и впервые стала по-настоящему нужной людям. В блокадные дни она постоянно выступала по радио, и ее голос многим помогал выжить буквально. «И вот вчера — я лежу, ослабшая, дряблая, кровать моя от артстрельбы трясется, — цитирует Берггольц в дневнике один из многочисленных блокадных отзывов, — я лежу под тряпками, а снаряды где-то рядом, и кровать трясется, так ужасно, темно, и вдруг опять — слышу ваше выступление и стихи… И чувствую, что есть жизнь». «Ленинградскую поэму», вышедшую в свет сразу после снятия блокады, в городе покупали за хлеб, 200-300 граммов — «выше этой цены для меня нет и не будет». А потом, чудом попав в марте 1942-го в Москву, Берггольц узнала, что здесь о смертельном голоде не знают и посылки в умирающий город не пускают по приказу Жданова. В 1949 г. Берггольц едва не попала под колесо ленинградского дела, в 1951-м ее новая книга стихов открывалась стихотворениями о Сталине, в 1952-м она лечилась от алкогольной зависимости…
Невыносимая, истовая, беспомощная жизнь, о смысле которой не нам судить. Но читая ее дневник, опубликованные здесь же письма, следственное дело, впервые извлеченное из архива лишь в 2009 г., и наброски к документальной книге «Дневные звезды», хочется согласиться с ее пониманием собственного пути: «Я здесь, чтобы свидетельствовать». Перед нами не размышления об истории, не переживания по ее поводу, перед нами она сама, наша недавняя история, голая, неприкрашенная. Жуткое зрелище, надо сказать.
Майя Кучерская
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/06/03/236291