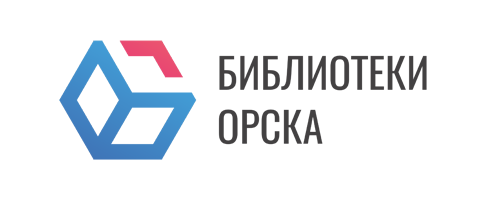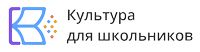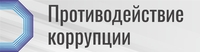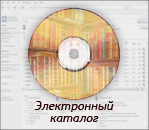Советуем почитать
Советуем почитать
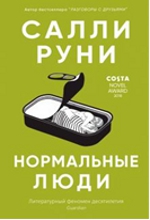 |
Возраст – это когда вычитываешь самый архаичный слой поколенческого романа и радуешься, что догнал молодого автора на долгой волне. В отзывах на роман Салли Руни «Нормальные люди» меня интересовало не то, почему он «получает такие разные отзывы» - как назвали дискуссию о нем на Bookmate Journal, - а почему его так единодушно рекомендуют современным, поколенческим. Эта «совершенно новая литература», какой «не было раньше» (Евгения Некрасова)», оказывается сопоставима с «Евгением Онегиным» (Е. Некрасова), романом «Что делать?» (сайт «Горький», имени автора рецензии не нашла), книгами Джейн Остин (Г. Юзефович) и повестью Юрия Трифонова (А. Наринская). |
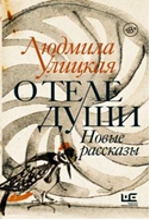 |
Название этой книги — «О теле души» — само по себе предлагает читателю игру: с одной стороны, оксюморон с привкусом каламбура и претензией на интеллектуальную беседу о метафизическом, с другой — о главном в двух словах с предлогом. Эта книга — разговор не просто о душе, но попытка ухватить ее физическую, «телесную», оболочку. Но «потрогать» душу читателю не удастся, поскольку единственное очевидное представленное автором «тело» — бабочка, да и та настолько банальна, что хочется думать об авторской не очень удачной шутке. |
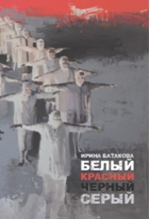 |
Действие романа происходит 18 сентября 2061 года. Автор приводит точную дату сразу же, на первой странице. Отчасти это сделано ради того, чтобы соотнести действие с первым полетом человека в космос, которому исполнилось сто лет, отчасти – ради отсылки к роману Джеймса Джойса «Улисс», действие которого также происходит в течение одного дня. «Улисс» в контексте романа Батаковой выглядит совсем не случайным, он задает стилистический вектор: в обоих произведениях важно не действие, а широкий культурный дискурс, автор веером разбрасывает цитаты и создает самые разные культурные аллюзии, на фоне которых индивидуальное ощущается еще более остро. В этом смысле можно понимать и само название книги: стилистические приемы в ней разноцветны и многообразны. |
 |
Когда в 2003-м вышла «Алмазная колесница», ее второй, японский, том стал сильнейшим разочарованием. От профессионального япониста ждешь чего угодно, но только не набора штампов (Япония = гейши + ниндзя). От автора «Азазеля» и «Левиафана» ждешь захватывающего приключенческого или детективного романа с проницательным героем-сыщиком, но не такой вымученной истории, где Фандорин ведет себя глупее, чем в любом из предыдущих романов. Вторая попытка оказалась гораздо удачнее. Не зря и сам Акунин* за несколько месяцев до выхода «Просто Масы» сказал, что новая книга, в первую очередь, признание в любви к Японии. |
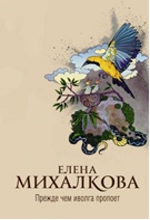 |
Кто есть на нашем литературном небосклоне Елена Михалкова? Она есть писательница, которая а) умеет писать живо и интересно; б) знает, что такое детектив; в) умеет детективы писать. Кроме того, ее книги не похожи друг на друга. Казалось бы, комплимент? И да и нет. Михалкова пошла по пути Акунина, который, начиная фандориану, обещал представить в ней «все жанры классического криминального романа» — и сдержал слово. В результате читатель, открывая книгу, не знал — то ли ему ждать бодренький приключенческий роман а-ля «Азазель», то ли детектив в духе «Левиафана», то ли триллер вроде «Декоратора», то ли любовный роман, то ли бульварный… Так же поступает и Михалкова. Кристи в таких случаях — как правило — разводила жанры по сериям: детективы — про Пуаро и мисс Марпл, приключения — про Томми и Таппенс, ну а психологические романы и вовсе издавала под псевдонимом. Из этого правила у нее встречаются и исключения, но, в целом, читатель не получал кота в мешке. Михалковское творчество — длинная цепь мешков. В принципе, можно было бы и не расстраиваться из-за этого — если бы не пункты б) и в). Новых романов автора «Дома одиноких сердец» я жду, и воспоминания о лучших книгах скрадывают достоинства не лучших. Но не всегда. |