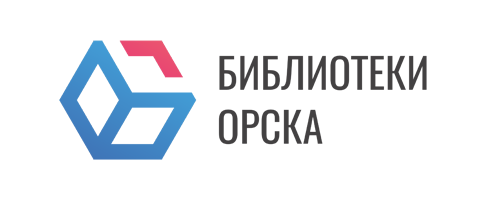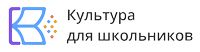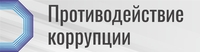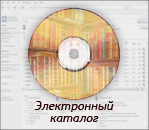Великая Отечественная война объединила советский народ в битве с врагом, и многие деятели культуры задали себе вопрос: как мы можем помочь в этой борьбе? Начали формироваться знаменитые фронтовые бригады — артисты отправлялись в зону боевых действий, чтобы поддержать наших солдат и офицеров. Ну а писатели и поэты стали военными корреспондентами.
Великая Отечественная война объединила советский народ в битве с врагом, и многие деятели культуры задали себе вопрос: как мы можем помочь в этой борьбе? Начали формироваться знаменитые фронтовые бригады — артисты отправлялись в зону боевых действий, чтобы поддержать наших солдат и офицеров. Ну а писатели и поэты стали военными корреспондентами.
Александр Твардовский
Один из главных творческих подвигов поэта-хроникера — это, конечно же, "Василий Теркин". Самый знаменитый литературный боец появился, когда Александр Твардовский был корреспондентом газеты "На страже Родины" еще во время финской войны.
О том, что можно создать поэтические зарисовки про простого и веселого парня, решили прямо на редколлегии газеты (кстати, в нее входил и еще один корифей отечественной поэзии — Самуил Маршак). Тогда же и родилась фамилия героя — Теркин: тертый жизнью, неунывающий простой человек — явно из крестьян — непобедимый русский солдат.
Но истинная слава пришла к Теркину во время Великой Отечественной. Тогда будущая поэма фактически по главам начинает публиковаться в ведущих газетах страны — "Правде", "Известиях", "Знамени". Тогда обретает и иллюстратора — художник Орест Верейский создает всем знакомые рисунки, которые печатают со стихами. Теркин фактически воюет вместе со всей страной: отправляется на фронт, совершает свой первый подвиг, получает ранение, возвращается в строй — и в итоге доходит до Берлина. Вырезки из газет со стихами о Теркине солдаты тщательно хранили в вещмешках, никогда не пускали на самокрутки. А кое-кто, бывало, даже рассказывал, что встречался с настоящим Теркиным на привале после боя и слушал его веселые песни под неизменную гармошку.
Константин Симонов
Еще одним поэтом, отправившимся на фронт в начале войны, был Константин Симонов. Он стал специальным корреспондентом "Известий". Уже в июле 1941-го вышла его статья "Горячий день", для которой товарищ Симонова, фотокорреспондент П. Трошкин, сделал фотографии подбитых немецких танков — так в прессе появилось первое свидетельство потерь наступающих фашистских войск.
Одновременно с фронтовыми очерками Симонов пишет стихи. Многие из них учат наизусть и повторяют как молитву — в первую очередь, конечно же, знаменитое "Жди меня". Это стихотворение, адресованное любимой женщине, сотни тысяч раз переписывали от руки, его цитировали в письмах, которые бойцы отправляли домой — женам, матерям, сестрам, детям. И вера в то, что любовь родного человека сохранит жизнь бойца на фронте, была непреклонна.
Константин Симонов мог быть не только лиричен, но и категоричен в благородной ярости. Еще одним знаменитым стихотворением 1942 года становится "Убей его!". Строчки, направленные против фашиста, обезличенного, но вместе с тем предельно конкретного, трансформировались в лозунг "Убей немца!". Убей страшного врага, который пришел покорить родную землю, не несет с собой ничего, кроме страданий и смерти, — и такого врага необходимо физически уничтожить. Как рассказывал поэт Михаил Львов: "Этому стихотворению нужно звание Героя Советского Союза. Оно убило гитлеровцев больше, чем самый прославленный снайпер".
Борис Полевой
Борис Полевой — автор знаменитой "Повести о настоящем человеке" (эта книга, написанная за рекордные 19 дней, появилась уже после войны) — тоже прошел всю Великую Отечественную фронтовым корреспондентом. Именно он подарил нам невероятно точную хронику Нюрнбергского процесса. Сначала появилась статья "Дымы Освенцима". Позже — большая книга "В конце концов", где возникают портреты не только членов Нюрнбергского трибунала и коллег-журналистов, но и фашистских преступников, оказавшихся на скамье подсудимых. А еще — свидетельства нацистских зверств, которые были представлены на процессе и стали в итоге известны всему человечеству.
Алексей Толстой
Кстати, именно эти преступления, вернее — свидетельства о них, буквально стоили жизни одному из великих советских писателей — Алексею Николаевичу Толстому. Он не был на фронте, но входил в состав Комиссии по расследованию злодеяний фашистских оккупантов. Здоровье писателя к этому моменту уже было сильно подорвано: рак легких, постоянная болезнь сердца. Но Толстой тщательно изучал и фотографии, и доклады с рассказами свидетелей зверств, которые гитлеровцы вершили на захваченных ими территориях.
Он написал об этом очерк "Коричневый дурман" и задумал большую публицистическую книгу. Но организм писателя не выдержал таких сильных переживаний: Алексей Толстой умер в феврале 1945 года, незадолго до Победы, в которой не сомневался и которую ждал всем своим истерзанным сердцем.
Андрей Платонов
На войне оттачивается и писательское мастерство Андрея Платонова: на фронте он не только пишет очерки для "Красной звезды", но и сражается как простой боец. Участвует в Ржевской битве, попадает в партизанский отряд под Гомелем.
Вот что писал он жене в 1943-м — здесь уже видна платоновская точность и его сардонический юмор, смешанный с невероятным оптимизмом: "Я под Курском. Наблюдаю и переживаю сильнейшие воздушные бои. Однажды попал в приключение. На одну станцию немцы совершили налет. Все вышли из эшелона, я тоже. Почти все легли, я не успел и смотрел стоя на осветительные ракеты. Потом я лечь не успел, меня ударило головой о дерево, но голова уцелела. Дело окончилось тем, что два дня болела голова, которая у меня никогда не болит, и шла кровь из носа. Теперь все это прошло; взрывная волна была слаба для моей гибели. Меня убьет только прямое попадание по башке".
Платонов прошел всю войну, был награжден медалями и получил звание майора. На войне у него открылся туберкулез, но Андрей Платонович все равно вернулся к работе и создал несколько блестящих журналистских очерков о советских офицерах.
Борис Заходер
Вполне возможно, что нам предстоит открыть еще много страниц фронтового творчества любимых писателей и поэтов. Например, ждут публикации военные стихи Бориса Заходера. Знаменитый поэт, которого мы знаем как блестящего сказочника, переводчика и автора стихов для детей, ушел на войну добровольцем. Писал на фронте стихи, в которых отражал все, что с ним было. Вот он вместе с лучшим другом уходит на войну, а вот друг погибает в бою. Вот приходит письмо от любимой девушки, в котором она сообщает, что выбирает другого. Вот — описание боя и рукопашной. Вот — сцены привала, разговора бойцов и офицеров.
Рукописи этих стихов Заходер хранил всю жизнь, но публиковать не хотел: считал их юношескими, полудетскими, недостаточно совершенными. А перерабатывать категорически отказывался: они были частью своего времени — и послевоенное совершенствование, скорее всего, сделало бы их не настолько точными и эмоциональными. Долгое время хранителем рукописи была вдова Бориса Владимировича — Галина Сергеевна, но и она ушла из жизни.
Наверное, однажды эти строки все-таки будут опубликованы — как свидетельство той творческой жизни на фронте, которая неотвратимо и ежедневно приближала счастливый миг Великой Победы.