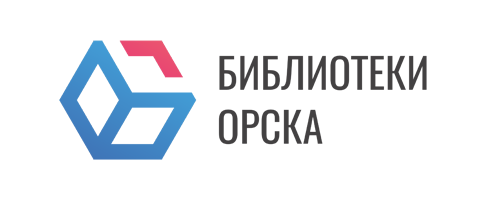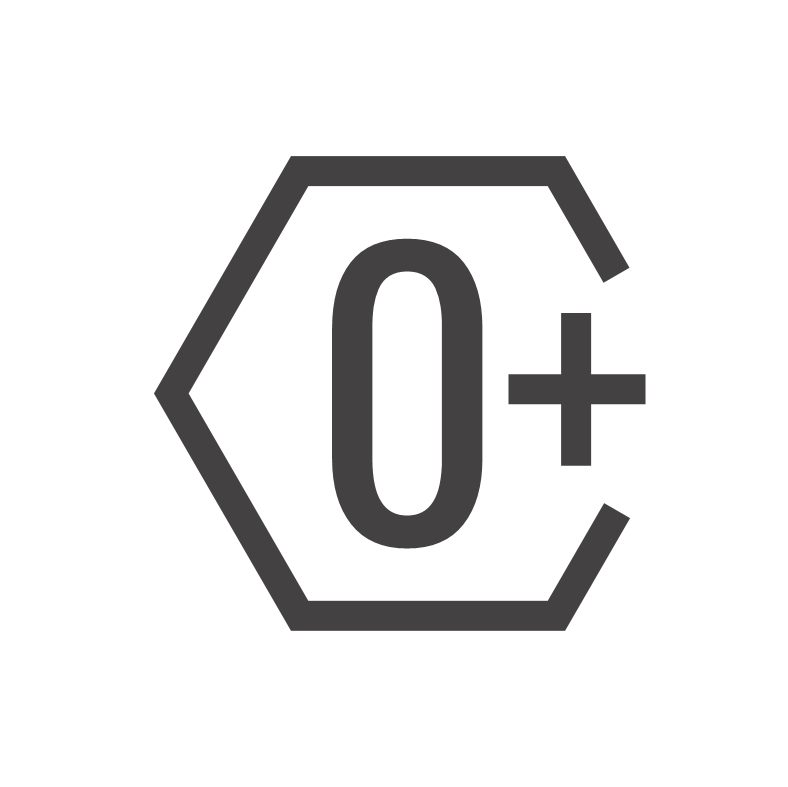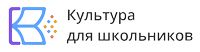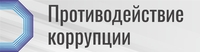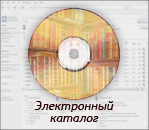Его «дорога длинная» началась в одном из красивейших городов Российской империи – в Киеве. Вертинский сам рассказал о своем детстве остроумно и ностальгически. Конечно, мемуары – это не кинохроника. Это гораздо интереснее. Он рано остался без родителей, быстро повзрослел и отверг всяческую муштру. Его со скандалом исключили из 5-го класса гимназии – за скверную успеваемость и шаловливое поведение. Вскоре юноша стал завсегдатаем кафе, демонической личностью и вообще – начинающим гением. Вертинский вспоминал: «Купив на Подоле на толкучке подержанный фрак, я с утра до ночи ходил в нем, к изумлению окружающих. Вёл себя я вообще довольно странно. Выработав какую‑то наигранную манеру скептика и циника, я иногда довольно удачно отбивался и отшучивался от серьёзных вопросов, которые задавали мне друзья и ставила передо мной жизнь. Не имея перед собой никакой определённой цели, я прикрывал свою беспомощность афоризмами, прибавлял ещё и свои собственные, которые долго и тщательно придумывал, и в скором времени прослыл оригиналом. Но пока я играл роль «молодого гения» и «непонятой натуры», ум мой неустанно и машинально искал выхода».
Его «дорога длинная» началась в одном из красивейших городов Российской империи – в Киеве. Вертинский сам рассказал о своем детстве остроумно и ностальгически. Конечно, мемуары – это не кинохроника. Это гораздо интереснее. Он рано остался без родителей, быстро повзрослел и отверг всяческую муштру. Его со скандалом исключили из 5-го класса гимназии – за скверную успеваемость и шаловливое поведение. Вскоре юноша стал завсегдатаем кафе, демонической личностью и вообще – начинающим гением. Вертинский вспоминал: «Купив на Подоле на толкучке подержанный фрак, я с утра до ночи ходил в нем, к изумлению окружающих. Вёл себя я вообще довольно странно. Выработав какую‑то наигранную манеру скептика и циника, я иногда довольно удачно отбивался и отшучивался от серьёзных вопросов, которые задавали мне друзья и ставила передо мной жизнь. Не имея перед собой никакой определённой цели, я прикрывал свою беспомощность афоризмами, прибавлял ещё и свои собственные, которые долго и тщательно придумывал, и в скором времени прослыл оригиналом. Но пока я играл роль «молодого гения» и «непонятой натуры», ум мой неустанно и машинально искал выхода».
Он актёрствовал, искал себя. Путешествовал. В 1912 году опубликовал несколько декадентских рассказов, к которым киевская публика отнеслась благосклонно. Мечтал сыграть Барона в «На дне», но в Художественный театр его не приняли: Константину Станиславскому не пришлась по душе картавость будущего шансонье, еще не ставшая фирменным знаком.
Я не знаю, зачем…
Успех пришёл к нему в 1915-м – с эстрадной программой «Песенки Пьеро». Вертинский выплыл на сцену как оживший герой блоковского «Балаганчика». При отчаянном макияже, в мистически лунном освещении. И представил публике странные песни, помогая себе выразительными движениями «поющих рук». Сначала он выступал в театре Марии Арцибушевой, перед сравнительно небольшим залом и не столько за деньги, сколько за обеды. Но очень скоро на него пошли, и зал неизменно был переполнен. Начались гастроли – в Петрограде, в театре миниатюр «Павильон де Пари». Так в России начинался новый жанр, который в ХХ веке станет ажиотажно популярным – эстрада. «Ариетки Пьеро» уже напевали во всех крупных городах России. Шла война – и, казалось бы, трудно придумать что-то менее подходящее к патриотическим порывам того времени, чем молодой напудренный Вертинский. Но он стал символом городского искусства того времени. Именно такие песни и требовались – экзальтированные, уводящие в иллюзорный мир. Но если бы там не было ничего, кроме эпатажа, – он не стал бы явлением. Вертинский всегда был не только сентиментален, но и ироничен, ядовит. Стихи писал простодушно, слова находил особенные, свои. В 1916 году он написал «Кокаинетку» («Что вы плачете здесь, одинокая глупая деточка, кокаином распятая в мокрых бульварах Москвы?») и «Ваши пальцы пахнут ладаном…». Трудно представить предреволюционные годы без этих песен. А уж «Лиловый негр» оставался остро модным несколько десятилетий. Где только не исполнял эту песенку Вертинский:
Где Вы теперь? Кто Вам целует пальцы?
Куда ушел Ваш китайчонок Ли?..
Вы, кажется, потом любили португальца,
А может быть, с малайцем Вы ушли.
В последний раз я видел Вас так близко,
В пролеты улиц Вас умчал авто.
И снится мне – в притонах Сан-Франциско
Лиловый негр Вам подает манто.
Все эти притоны он увидит наяву гораздо позже. Включая китайские. Напророчил!
Конечно, он учился у старших современников – поэтов. Александр Блок сильнее других повлиял на мировоззрение Вертинского, на его эстетику. Но многое он позаимствовал и у Игоря Северянина, который как раз тогда, в предвоенные годы, оказался на пике экзальтированной «двусмысленной славы». Оба перемешивали куртуазную экзотику с современностью, которая пахла бензином и кокаином. Вертинский стал знаменитым, аншлаговым исполнителем. Журналисты называли его «остроумным и жеманным». Сочетание искренности и эпатажа привлекало публику – особенно девушек с претензиями… Это не помещало ему в годы Великой войны (так тогда называли Первую мировую) исправно служить санитаром, спасать раненых. Нередко он выступал перед солдатами – оказалось, что и им близко искусство Пьеро. Правда, костюм он сменил с белого на черный, но от грима не отказался.
А потом – весна 1917 года, отречение царя, революция и в Петрограде, и в Москве, и в Киеве… И октябрь, большевики. Той осенью Вертинский оказался на похоронах юнкеров. Это была первая кровь революции. Они погибли на московских улицах, защищая уже отставленное Временное правительство. Вскоре он написал песню «То, что должен сказать». Получился современный реквием, песенный плач:
Я не знаю, зачем и кому это нужно,
Кто послал их на смерть недрожащей рукой?
Только так беспощадно, так зло и ненужно
Опустили их в Вечный Покой!
Больше Вертинский не писал о Гражданской войне, он всё сказал о ней первой же осенью… А эту песню в годы войны он пел и генералу Якову Слащёву. Если верить несколько эгоцентричным воспоминаниям Вертинского, Слащев говорил ему: «А ведь с вашей песней, милый, мои мальчишки шли умирать! И еще неизвестно, нужно ли это было...» А потом Слащёв, вешавший большевиков в Крыму, вернулся в Россию, в Советскую Россию. Мечтал о возвращении и Вертинский – Пьеро, оказавшийся на кровавом перекрестке истории. Он не примыкал к тем, кто мечтал о белом реванше, жил, как «бродяга и артист», не порывая с родиной.
В 1920-е годы Вертинский стал настоящим кумиром русских барышень по всему миру. Впрочем, он покорял любую аудиторию, где бы ни доводилось выступать – и в Париже, и в Штатах. Поклонение доходило до фетишизма – и это задолго до битломании и даже до лемешисток. Его манера завораживала, его танго исправно переносили слушателей в таинственную бананово-лимонную реальность… Достаточно вспомнить воспоминания писательницы Натальи Ильиной, которая в юности переболела Вертинским сполна: «При первых звуках рояля и голоса все привычное, будничное, надоевшее исчезало, голос уносил меня в иные, неведомые края. Где-то прекрасные женщины роняют слезы в бокалы вина ("Из ваших синих подведенных глаз в бокал вина скатился вдруг алмаз..."), а попугаи твердят: "Жаме, жаме, жаме" и "плачут по-французски"... Где-то существуют притоны Сан-Франциско, и лиловые негры подают дамам манто... Я видела перед собой пролеты неизвестных улиц, куда кого-то умчал авто, и хотела мчаться в авто и видеть неизвестные улицы... "В вечерних ресторанах, в парижских балаганах, в дешевом электрическом раю..." При этих словах внутри покалывало сладкой болью».
Секрет двух «И»
Его образ мерцал на грани дурного тона. Вертинского критиковали за эпатаж, за жеманность. Но его неизменно спасали две «И». Это ирония и искренность. И азартная любовь к легкому жанру, которого в России всегда не хватало. К тому же почти в каждой песенке Вертинского сквозь туман, сантименты и комизм проступают две-три строки неожиданной точности и силы.
В советской России дорваться до пластинок Вертинского могли немногие. О нём слагались легенды. Пластинки Вертинского звучали и в доме Сталина. Приёмный сын Сталина, Артём Сергеев, вспоминал: «Как-то Сталин ставил пластинки, у нас с ним зашел разговор, и мы сказали, что Лещенко нам очень-очень нравится. "А Вертинский?" — спросил Сталин. Мы ответили, что тоже хорошо, но Лещенко — лучше. На что Сталин сказал: "Такие, как Лещенко, есть, а Вертинский — один". И в этом мы почувствовали глубокое уважение к Вертинскому со стороны Сталина, высокую оценку его таланта". Да, он не был ресторанным певцом, даже когда пел в ресторанах и кабаре. Не та каста.
Шаляпин с долей – но лишь с долей! – иронии называл Вертинского «великим сказителем земли русской». Певцами тогда называли только оперных или фольклорных гигантов с голосом, заглушающим шум морского прибоя… Вертинский на такое не претендовал. Но и он, выступая в не столь уж камерных залах, пел так, что мёртвых мест не было, все собравшиеся слышали каждое слово Вертинского, слышали нюансы его интонации. А ведь микрофонов в те времена ещё не придумали… А завораживающие интонации, паузы, нервность и нежность! Вертинский затягивал в свой мир «притонов Сан-Франциско» и «маленьких балерин», артистически выпевая каждое слово – и его герои оживали в воображении слушателей, которые чувствовали не только антураж, но и подтекст «песенок».
Он превращал в «песенки» стихи тогдашних молодых поэтов. Часто импровизировал, менял эпитеты и целые строки, а иногда и добавлял от себя – и к «Сероглазому королю» Анны Ахматовой, и к «До свиданья, друг мой, до свиданья» Сергея Есенина. Вкус на стихи у него был артистический. Он безошибочно выбирал самое эффектное. Да и без строк самого Вертинского антология русской поэзии ХХ века была бы неполной. «А всё-таки он был настоящим поэтом», – сказал о Вертинском Сергей Образцов через много лет после смерти певца. Хотя… Поэтам, конечно, не нравилось, когда он вмешивался в их строки, что-то переиначивал.
Поэт, актер, мелодекламатор, создатель специфического жанра – всё это часто повторяют в разговорах о Вертинском, и всё это верно. Но он, не имея музыкального образования, был талантливейшим мелодистом! «Он в сотни раз музыкальнее нас, композиторов», – говорил Дмитрий Шостакович. И впрямь, без его мелодий невозможно представить историю русского ХХ века. А ведь он даже не знал нот!
Русское зарубежье вовсе не было монолитным, там дули разные ветра. Вертинский никогда не относился к непримиримым противникам советской власти, что не мешало ему восхищаться стихами крайне правого Георгия Иванова. В Варшаве он сошёлся с советским послом Петром Войковым – тем самым, знаменитым, в Китае – с дипломатом Александром Богомоловым. Певец частенько намекал, что у него имеется советский паспорт. В Китае его привечали и советские торговые представители, и харбинские «русские фашисты». Все рукоплескали Вертинскому. И, наверное, все были ему в той или иной степени интересны. Он подсматривал за людьми, выхватывал из жизни сюжеты и репризы для песен. Всё чаще и острее он пел о Родине – как в «Чужих городах» на стихи Раисы Блох:
Принесла случайная молва
Милые, ненужные слова…
Летний Сад, Фонтанка и Нева.
Вы, слова залетные, куда?
Здесь шумят чужие города
И чужая плещется вода.
И чужая светится звезда.
Для Вертинского это – не дежурный сеанс ностальгии эмигранта, а начало пути домой.
Певца в СССР боготворили – те, кто мог достать за сумасшедшие деньги его пластинки. Остальные довольствовались легендами. Но официально к нему следовало относиться как к эмигранту, отчасти – классовому врагу. Непросто было вписать его шансоньетки в эстетику революционного искусства. Помните стихотворение Ярослава Смелякова «Любка Фейгельман»?
Гражданин Вертинский вертится спокойно,
Девочки танцуют английский фокстрот.
Я не понимаю, что это такое,
Как это такое за сердце берет? –
Советский поэт противопоставлял Вертинского всему новому, настоящему. Кстати, это стихотворение тоже стало известным городским романсом.
А писатель Лев Никулин (по светской язвительности он не уступал Вертинскому), давний знакомый, снова услышавший певца в Париже, написал о нем: «Кукла из дансинга, стилизованная кукла Пьеро, одетая в кружева и бархат, висела у него через плечо. Он махнул нам длинной прозрачной рукой. И вошел в подъезд. И мы представили себе бархатного длиннолицего певца, ветошь вчерашней эпохи, которую время смахнуло с эстрады и перебросило, как куклу, через плечо». Да и можно ли было написать о нем иначе? Потом, годы спустя, Вертинский снова приятельствовал с Никулиным и не демонстрировал обид. Чтобы выжить в богеме – нужно уметь не обращать внимание на обиды. Вертинский был благородный бродяга. Сколько достоинства в его «Прощальном ужине» – право, больше, чем кокетства:
Я знаю, даже кораблям
Необходима пристань.
Но не таким, как я! Не нам,
Бродягам и артистам!
Песня о Сталине
Тоски по Родине в его песнях становилось всё больше.
Звону дальнему тихо я внемлю
У Днестра на зеленом лугу.
И Российскую милую землю
Узнаю я на том берегу.
А когда засыпают березы
И поля затихают ко сну,
О, как сладко, как больно сквозь слезы
Хоть взглянуть на родную страну…
Он пел в Китае, где было полным-полно русских: и эмигрантов, и граждан СССР. Его меценатами бывали и французские банкиры, и советские управленцы. Вертинский открыл в Шанхае роскошное кабаре, а в стихах проговаривался:
Звенят, гудят джаз-баны
И злые обезьяны
Мне скалят искалеченные рты.
А я, кривой и пьяный,
Зову их в океаны
И сыплю им в шампанское цветы.
Есть легенда – похоже, правдивая, – что, прослушав песню Вертинского «В степи молдаванской», Сталин изрёк: «Пусть приезжает». А потом секретно побывал на одном из концертов «сказителя». 10 апреля 1943 года Вертинскому разрешили поселиться в СССР. В Москве странника ожидал роскошный номер в «Метрополе», а потом и комфортабельная квартира на улице Горького. В его стихах появились новые мотивы:
О Родина моя, в своей простой шинели,
В пудовых сапогах, сынов своих любя,
Ты поднялась сквозь бури и метели,
Спасая мир, не веривший в тебя.
Чтобы так мимоходом бросить: «Спасая мир, не веривший в тебя», нужно было прожить скитальческую жизнь «бродяги и артиста», повидать десятки стран, несколько раз пересечь океан… Он не понаслышке знал, с каким высокомерием «чужие господа» относились к «варварской» северной стране. Он знал, что к чему.
На сцену вышел не Пьеро и не богемный кумир, а благородный герой, отец и муж, который вёл разговор с публикой «о нас и о Родине». Смокинг, элегантность и изящество. Он не нуждался в рекламе, на концерты Вертинского и так ломились.
Эмиграция ревниво следила за советскими успехами Вертинского. Вслед ему, как водится, летели проклятия: «Продался большевикам», «Всегда был шпионом!», «Исписался». Презрительно отзывались о его новых песнях, хотя среди них были такие шедевры, как «Доченьки». Но как могли патентованные энтээсовцы не поморщиться от таких строк:
Много русского солнца и света
Будет в жизни дочурок моих,
И что самое главное — это
То, что Родина будет у них!
А ведь это – Вертинский высшей марки. «Советские» напевы Вертинского звучат без фальши, с тем же грассированием, с теми же тайными мучениями страстей, с той же улыбкой поверх патетики и с патетикой поверх улыбки. Он не изменял себе. Цензура цензурой, но и смокинг, и аристократическая стать, и сарказм – всё осталось при нём.
Говорили, что Вертинский прельстился щедрыми кремлевскими гонорарами, а он готов был примчаться в Москву еще в 1941-м, когда гитлеровцы шли на Восток. Его возвращение на Родину не было спонтанным, он уже лет десять, если не больше, оставаясь странником, в душе связывал себя с Советским Союзом.
Ходили легенды, что на некоем концерте в Большом театре артист встал на колени перед сталинской ложей. Скорее всего этот апокриф был парафразом известной истории с Шаляпиным, который в свое время на сцене склонил колени перед императором…
Но свою песню о Сталине он написал. Она многим хорошо известна до сих пор:
Чуть седой, как серебряный тополь,
Он стоит, принимая парад.
Сколько стоил ему Севастополь!
Сколько стоил ему Сталинград!
И в слепые морозные ночи,
Когда фронт заметала пурга,
Его ясные, яркие очи
До конца разглядели врага.
Прослушав эти куплеты, их герой, попыхивая трубкой, задумчиво произнёс: «Это сочинил честный человек. Но исполнять не надо». Вождю перечить не стали. По радио Вертинский практически не звучал. Ему так и не присвоили звание «заслуженного артиста», не говоря о «народном». «У меня нет ничего, кроме мирового имени», – говаривал Вертинский. Но он не хотел становиться музейным экспонатом. Исполнял не только свою «классику», но и новые песни. Он сочинял и на стихи Сергея Смирнова – молодого советского поэта, умевшего писать несколько небрежно, как раз под Вертинского. Но лучшие строки для собственного репертуара он и в те годы писал все-таки сам:
Надоело в песнях душу разбазаривать,
И, с концертов возвратясь к себе домой,
Так приятно вечерами разговаривать
С своей умненькой, веселенькой женой.
Самоирония ему не изменяла.
Постаревший принц
В нашенском лесу он был как экзотическое растение – пришелец то ли из Серебряного века, то ли со страниц Чехова, то ли из парижских кабаре. Постаревший принц декаданса в королевстве соцреализма. Нездешний повеса и в то же время – свой. Господин и в то же время – товарищ. Но в нем снова нуждались. Да и в мир советской богемы он вписался так, как будто только его и ждали. О Вертинском, о его шутках, о его манерах, о его элегантности снова ходили легенды. В Москве тогда хватало талантливых актеров, художников, литераторов, в которых он нашел друзей. Вертинский убедился, что советское искусство гораздо интереснее, чем это кажется эмигрантам…
Он дал в СССР несколько тысяч концертов. Где только не пел! Зато в Советском Союзе ему не приходилось выступать «в вечерних ресторанах, В парижских балаганах, В дешёвом электрическом раю». «Недавно в Донбассе я пел под землёй для шахтёров во время обеденного перерыва. Они подарили мне шахтёрскую лампочку с выгравированной на серебряной дощечке тёплой и дружеской надписью. Я ею очень горжусь», – это тоже из его мемуарных записей. Он мог собрать любой зал, даже без афиш. Зрители не жевали, не стучали вилками, они внимали ему. Некоторые путешествовали за Вертинским по городам СССР – это были истинные поклонники.
Но любимец публики сетовал в письме заместителю министра культуры: «Почему я не пою по радио? Разве Ив Монтан, языка которого никто не понимает, ближе и нужнее, чем я? Почему нет моих пластинок? Разве песни, скажем, Бернеса, Утесова, выше моих по содержанию и качеству?» Правда, в 1951 году у Вертинского появилась почетная регалия – Сталинская премия за роль зловещего кардинала в фильме Михаила Калатозова «Заговор обреченных». Кинообраз получился запоминающийся, да и фильм не из последних, хотя и политизированный сверх меры. Вертинский, с одинаковой элегантностью носивший фрак и сутану, стал украшением советского кино. А пожалуй, лучшая его роль – князь, стареющий поклонник красоты из «Анны на шее».
Незадолго до смерти он не без воодушевления писал: «На днях выходит фильм «Кровавый рассвет» по повести украинского писателя Коцюбинского «Фата-Моргана» с моим участием. Сейчас буду сниматься в фильме «Олеко Дундич» в роли французского генерала Жобера. Так я живу у себя на родине и работаю. Народ меня принимает тепло и пока не даёт мне уйти со сцены. Концерты мои переполнены до отказа. На днях буду напевать новые пластинки. Даже постареть некогда! А на это ведь тоже нужно время!» Увы, Александр Николаевич поторопился – Роль Жобера сыграл другой актёр, тоже дворянского происхождения – Евгений Велихов из Малого театра. Все-таки преждевременно он написал: «Мне споют на кладбище те же соловьи…»
Он пел и 21 мая 1957 года – в ленинградском Доме ветеранов сцены имени Савиной. Пел, как всегда, в полную силу, не только голосом, но и сердцем. В тот же день в гостинице «Астория» случился сердечный приступ. Врачи не смогли спасти артиста. Ему было 68 лет. Быть может, выглядел он немолодо, но острил, дружил и мечтал, как в юности. И успел попрощаться со своим родным городом – где, конечно, снова бывал на гастролях:
Киев - родина нежная,
Звучавшая мне во сне,
Юность моя мятежная,
Наконец ты вернулась мне!..
Здесь тогда торговали мороженым,
А налево была каланча...
Пожалей меня, Господи Боже мой...
Догорает моя свеча!..
Такие стихи случаются только у настоящих поэтов. Он умел предчувствовать.
Его обманчиво легкомысленная, искренняя муза не забыта. Вертинский создал жанр – как поэт и композитор, как создатель эстрадного «театра одного актера». Булат Окуджава, да и Владимир Высоцкий немыслимы без Вертинского. Шарль Азнавур учился у него искусству создавать песни из житейских историй. Ему многим обязаны и поющие поэты 1960-х, и такие актеры, как Андрей Миронов, и рок-музыканты более позднего времени. Когда Борис Гребенщиков(включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов)записал пластинку песен Вертинского – это снова было открытие. И таких открытий, связанных с Вертинским, будет ещё в изобилии. Нам не дано разгадать секретов великого артиста и замечательного поэта. Быть может, дело в том, что он не боялся быть смешным и печальным одновременно, а также – вычурным, слишком открытым, старомодным. И поэтому не стареет, как и его лучшие песни. А их было немало.