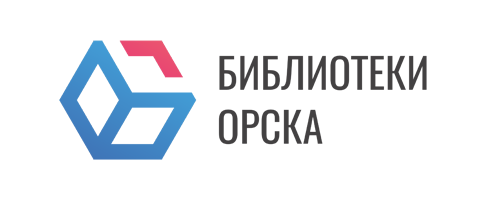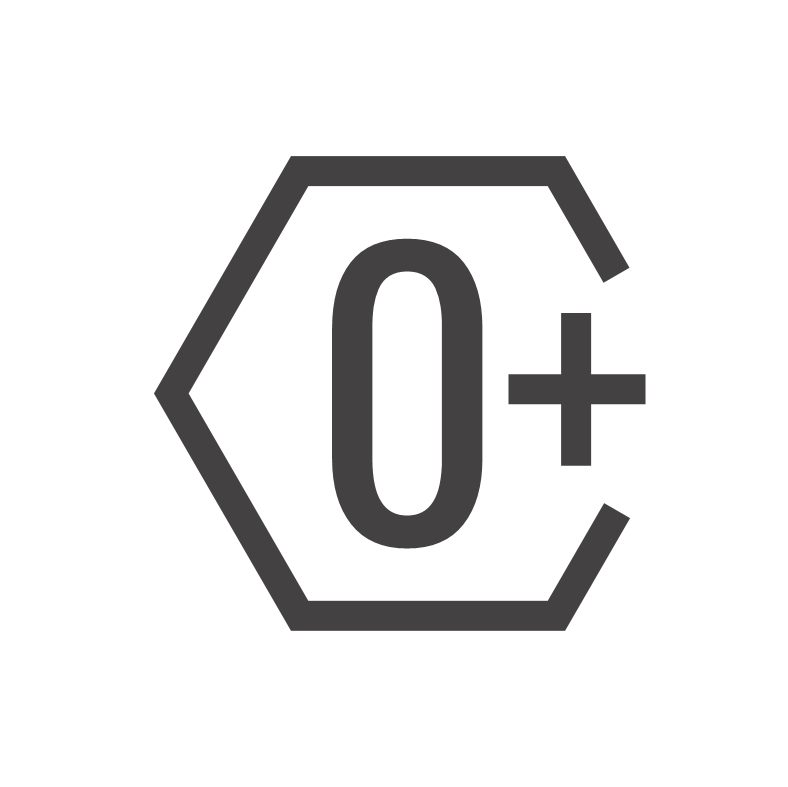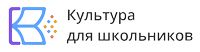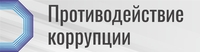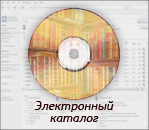|
H2SO4 — химическая формула, которая оставила немало едких следов на выдающихся музейных экспонатах. Ее живое воплощение — концентрированная серная кислота — излюбленное орудие арт-вандалов. Среди этой когорты преступников особенную известность получил Ханс-Иоахим Больман, прозванный Кислотным убийцей за немыслимый масштаб нанесенного ущерба — более пятидесяти поврежденных картин. Умерев в 2009 году в возрасте семидесяти лет, он успел за долгий период разрушительной карьеры испортить труды Клее, Рубенса, Дюрера, Рембрандта и других именитых художников. Ключевые эпизоды его жизни, прошедшей между набегами на крупнейшие музеи Европы и лечением в психбольницах, угадываются в романе польского прозаика и поэта Яцека Денеля, который из фрагментов больманской биографии создал неоднозначный образ Кривоклята, чья фамилия вынесена в заглавие романа. |
Персонаж во многом повторяет судьбу реального прототипа: с юности мучаясь расстройством личности, он обращается к специалистам, но вмешательство медицины не приносит облегчения — лекарства ухудшают самочувствие, нейрохирург и вовсе делает пациенту лоботомию по ошибке. А когда из-за несчастного случая погибает супруга — единственный близкий человек, помогающий не выпасть из социума и разделяющий общее увлечение изобразительным искусством, — психика повреждается окончательно.
Сходства на этом заканчиваются — Больман бегал по выставкам с флаконом ядовитого концентрата, вымещая обиду и агрессию на объектах былой симпатии, а Кривоклят становится вандалом по иной причине. Манифестируя свою подрывную деятельность, он убежден, что разбрызгивает кислоту во благо — как ни парадоксально — подлинной живописи. Критикуя потребительское отношение к искусству, мещанский интерес к экономической, а не эстетической ценности произведений («все это безумство СМИ вокруг убытков, весь этот подсчет в шиллингах, в марках, а потом в евро»), Кривоклят верит в теорию: пробудить массовое сознание от бескультурного забытья способно только уничтожение шедевра. Безвозвратная утрата оригинала обозначит его незаменимость, невозможность залатать образовавшуюся пустоту материальным эквивалентом, цифровой репрезентацией (возникает очевидная параллель со смертью жены, после которой мужчина резко изменился и перестал быть пассивным к несправедливостям жизни). Провокационный характер бунтаря раскрывается в диссонансе слова и дела: озвучивая зачастую вполне рациональные тезисы, он доводит их до гротеска, действуя за пределами здравомыслия, — это арт-еретик, антигерой-раздражитель, деструктивными методами указывающий на изъяны нашей повседневности. Располагаясь где-то между Джокером и Рэндлом Макмерфи, Кривоклят встает в один ряд с трикстерами современной культуры.
Синопсис романа обманчиво прост: находясь в медицинском центре «Замок Иммендорф» для душевнобольных, протагонист рассказывает о себе, раздает пощечины общественному вкусу и замышляет новую вылазку в музей, имитируя адекватность перед врачами. Однако изображение внешнего плана постоянно размыто, подернуто рябью, как при плохой видеотрансляции. И внимание Денеля сосредоточено именно на источнике этих помех — сознании Кривоклята, где происходит чуть ли не главное действо книги — приключение мысли, рефлексия нестабильного рассудка:
…принципиальное значение для моей задачи имеет признанная шедевральность, потому что если я должен всколыхнуть тысячи, миллионы совестей, если я на самом деле должен своим деянием, актом потрясти общество, страдающее летаргией, если я должен довести до сведения всех и каждого, что всякое утраченное произведение вырвано из их рук, из их глаз, вырезано из их тела, как фунт мяса, и что эта рана никогда не затянется, то я обязан ударить по тому, что известно хотя бы по репродукции, по коробочкам из-под чая, по телерекламе, что смотрит на нас с плакатов перед музеем, я обязан вырвать то, что им близко, как кто-то в их жизни, потому что оно точно так же, как и человек, неповторимо.
На читателей обрушивается непрерывный монолог — сплошная речевая волна без пауз-абзацев, с головокружительно-длинными предложениями, захватывающими одну-две страницы. Внутри голосовой прозы, снабженной звукописью, уточнениями, повторами фраз, ведущая тема ненормальности персонажа и его среды обитания демонстрируется через сложный синтаксис:
…он не остался у меня в долгу и вместе с коллегами прописал валиум и галоперидол, прописал инсулиновые шоки и электрошоковую терапию, прописал групповую и бихевиоральную терапию, прописал антидепрессанты, успокоительные и противопсихотические средства, я же от месяца к месяцу, от года к году был ему всё более и более благодарен за его старания, все дни напролет лежал на койке, вперив взор в стену, или, сидя на террасе больницы, прикуривал одну сигарету от другой и всё думал, как лучше, как душевней мог бы я оказать ему свою безграничную благодарность за электрошоки, за инсулиновые шоки, за успокоительные и противопсихотические средства, которые в очередной раз должны были вытащить меня из моей легкой душевной хрипотцы, а в действительности вогнали меня в хроническую и тяжелую болезнь, которую продолжали коварно именовать легкой болезнью.
Тщательность стилистической выделки характерна для всего творчества Денеля — этот писатель-денди, польский Оскар Уайльд, облаченный в модный костюм, буквально одержим «дизайном» текста. Если вспомнить романы «Ляля» или «Сатурн», изданные на русском в 2015 году, то они тоже выделялись индивидуальным языковым декором. В первом случае автор реконструировал биографию своей бабушки, используя вербатим, во втором — повествуя о напряженных отношениях Франсиско Гойи с сыном, обращался к элементам испанского языка, подчеркивающим специфику выбранного материала.
Распространенный прием Денеля — сочинение стилизаций на основе работ других литераторов — не дотошное эпигонство, а скорее осмысленное обыгрывание, постмодернистская примерка нарративных личин. Например, его дебютная книга рассказов «Коллекция» переполнена реминисценциями к наследию Бруно Шульца, сборник повестей «Бальзакиана» имитирует поэтику создателя «Человеческой комедии». И пусть некоторые польские критики ругают писателя за склонность к подобной мимикрии, важно обозначить, что у Денеля при намеренном переодевании прозы в чужую форму тем не менее сохраняется оригинальность содержания — самостоятельность рассказываемой истории.
Роман «Кривоклят» тоже не обошелся без концептуальной маскировки и является старательным пастишем на произведения Томаса Бернхарда. Призрак австрийского классика-мизантропа, знаменитого ядреными высказываниями против отечества, псевдоинтеллектуалов и фальшивых суждений, обитает на каждом уровне текста. В эпиграф вынесены отрывки из его романов — цитаты о ненадежности человеческого разума, однако намек на скрытое присутствие Бернхарда оставлен еще раньше — в самом названии книги. На обложке русскоязычного издания, как и в польском оригинале, обозначена лишь фамилия антигероя, но полный билингвальный заголовок притаился на титульнике: «Кривоклят, или Ein österreichisches Kunstidyll». Кунштюк вполне в духе Денеля — непереведенная фраза на немецком («австрийская арт-идиллия») указывает на двойственную природу романа.
Фирменные атрибуты бернхардовских сочинений представлены в полной мере: это и условность сюжета, который служит всего лишь обрамлением для обвинительной речи; и монолог-повествование с щупальцеобразными предложениями; и маргинальные персонажи, балансирующие на грани помешательства. Прозу австрийца принято величать музыкальной из-за богатой лексической и синтаксической аранжировки письма, и раз такая нотная грамота идеально соотносится с историей кислотного вандала, то Денель смело воспроизводит ее в своей вариации.
В частности, писатель сталкивает два узнаваемых бернхардовских типажа — замыкая полюса одной электрической цепи, усиливает драматизм. В антигерое-вандале еще можно найти симпатичные стороны, признаки эмпатии — его натура во многом родственна Регеру из «Старых мастеров» Бернхарда: тот же эстетический эгоизм, неприязнь к навязанному канону в искусстве, жесткое отстаивание личных взглядов и одновременно — неподдельная скорбь по умершей супруге, теплота чувств. Другое дело — зеркальный двойник Кривоклята и приятель по дурдому — художник Цайетмайер, погруженный в постоянный мрак. Тоже любитель искусства, но со страшной изнанкой: создатель новаторских рисунков и при этом зверский убийца жены, обреченный на забвение и пожизненную изоляцию (напоминает Конрада из романа «Известковый карьер» — очередная перекличка с текстом австрийского драматурга). Персонажи сходятся как инь и ян, ощущая роковую связь:
Если на это взглянуть с определенной перспективы, — начал Цайетмайер, — мы являемся как бы негативами друг друга, но не потому, что находимся на противоположных полюсах характера, возраста, и не потому, что мы родились на противоположных концах земли, а потому, что негативами по отношению друг к другу являются наши задачи, потому что именно задачи, дидаскалии (слово Цайетмайера) определяют нашу суть <…> не мы выбираем задачу, а она уже выбрана для нас, или, может, даже она, задача, выбирает нас, что звучит китчевато, как из какой-то сентиментальной повестушки, но китчеватой она вовсе не является еще и потому, что в противоположность сентиментальным повестушкам, разыгрывающимся на фоне альпийских гор и цветущих крокусов, в реальности задачи не всегда бывают добрыми и ясными…
Композиционная расстановка сил, выстраивание четких оппозиций организуют мрачное пространство безвыходности: мир-психушка и мир-музей — бездарные арт-терапевты и гениальные художники-безумцы. Вандал обливает концентрированной кислотой шедевры, которые бюрократы от искусства точно так же уродуют кислотой пошлых трактовок и удобных клише, сужающих величие замысла. Обреченность прослеживается даже на уровне наименований: фамилия Кривоклята отсылает к средневековому чешскому замку, оборудованному под тюрьму; а название медицинского центра «Замок Иммендорф» — к печально известному хранилищу картин в Нижней Австрии, сожженному нацистами при отступлении в 1945 году (тогда в пожаре сгорели шестнадцать полотен Густава Климта). В подобной удушливой герметичности нет ни справедливости, ни победителей — остается лишь оплакивать произведения, исчезнувшие под перекрестным огнем противостоящих идеологий.