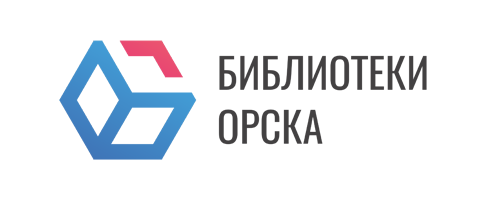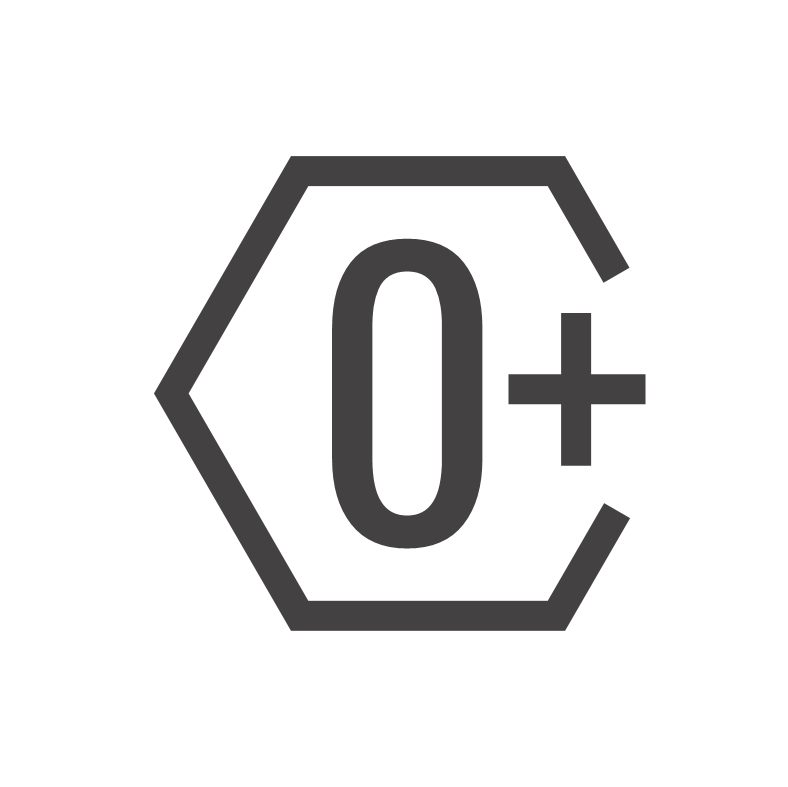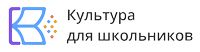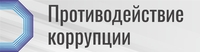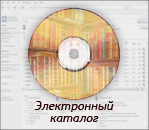Чтение классика — это практически всегда перечитывание. Положим, конкретно эту вещь ты не читал — так читал другую, а эта дополнит, оттенит, но ничего не посмеет отменить.
Чтение классика — это практически всегда перечитывание. Положим, конкретно эту вещь ты не читал — так читал другую, а эта дополнит, оттенит, но ничего не посмеет отменить.Автобиографическая проза Булата Окуджавы, собранная в одной прекрасно изданной книге, — это, конечно, здорово. Том открывается знаменитым произведением «Упраздненный театр», посвященным раннему детству поэта. Здесь можно было бы порассуждать о склонности, наверное, любого человека — а поэта в особенности, — к мифологизации своей жизни (об этом хорошо и проникновенно говорила еще Марина Цветаева), но подобное заявление прочитается общим местом. Ну разумеется, Булат Окуджава создает свой собственный миф. А почему бы и нет? В «Упраздненном театре», например, нет имени «Булат», нет и младшего брата поэта, Виктора, о существовании которого, однако, можно узнать из документальных биографий. Зато есть случайные встречи и какие-то, казалось бы, совершенно левые приятели по школе и дворовым играм, описанные барельефно-подробно.
Правда мифа — и правда документа. Естественно, в прозе поэта будет торжествовать правда мифа. «Я»-персонаж раздваивается: немолодой, умудренный, битый жизнью, всемогущий (бесподобно владеющий словом) Булат — и маленький, невинный, надежно отгороженный от «жизни» любовью десятка любящих родственников Ванваныч. С какой печалью «этот» смотрит на «того»! Да это всегда так, если бы молодость знала… До слез порой бывает жаль мальчика на фотографии — если знать, какое будущее уготовано ему, юноше, мужчине, старику.
Окуджава поразительным образом сделался если не универсальной «совестью эпохи», то, во всяком случае, голосом, который резонировал с этой эпохой, задавал неповторимый тон всем нашим шестидесятым. Наверное, это особенный дар, уникальный, неповторимый талант Булата Окуджавы — чуть-чуть странные, нарочито простые слова, иногда соединенные причудливо, иногда — с подчеркнуто романсовой, обманчивой наивностью, — но доходящие до каждого сердца. Его трогательные песни, которые мог спеть любой. Никакой сложности аккомпанемента. Насколько не звучат песни Высоцкого в любом чужом исполнении — настолько универсальны, народны в этом отношении песни Окуджавы. При том, что почти все поют их «лучше», чем автор, — и при том, что — кто бы их ни исполнял, — неповторимая интонация Булата Шалвовича все равно не перестает звучать в голове слушающих.
Потому что Окуджава — это резонанс. Он поймал в себя эпоху, как в фокус, и тихо, деликатно, совсем-совсем негромко сказал… Господи, да что сказал-то? Ничего потрясающего миры он, собственно, не изрек. Не содержание тут важно — интонация. Неподражаемая интимность, камерность шестидесятых — при всей их развернутости, открытости миру (молодежный фестиваль, Вудсток…)
Проза поэта по ее основным свойствам практически такая же, как его стихи. Но здесь еще нужно отметить одно удивительное свойство «Упраздненного театра»: фактически для нас это ретро в квадрате. Воспоминания о двадцатых и тридцатых — ретро. Но воспоминания эти сделаны голосом шестидесятых (да, окончено в 1993-м, но голос неизменен: все та же хрупкая, ломкая интонация доверительного собеседника). Ретро второе. Представим себе этот девяносто третий год. Наш девяносто третий, не Виктора Гюго. Тоже достаточно кровавый и жуткий, хоть и без гильотины. Коротичевский «Огонек»: разоблачения, публикация неопубликованного, жуткие воспоминания лагерных сидельцев, тяжелые жизненные свидетельства очевидцев. И среди всего этого — «Упраздненный театр» Окуджавы… Интеллигентная речь вполголоса.
Яростный мажор двадцатых, победа Революции, комсомол и Гражданская поданы у Окуджавы исключительно в лирических тонах. Практически — элегия, «Размышления на сельском кладбище». Все тонет в мельчайших субъективных переживаниях — в первую очередь, переживании любви и красоты. Непросто справиться автору с половодьем родственников — как с отцовской, так и с материнской стороны. Но для каждого он найдет какое-то особое мгновение, особенное воспоминание, совсем незначительное в масштабах мировой революции, но бесконечно важное, необходимое в масштабах одной отдельно взятой личности. И через эти штрихи, буквально в ладонях, поднесет читателю каждого: всех своих теть и их мужей, всех своих дядьев и их незадачливую жизнь…И они врежутся в память навеки, каждый своей неповторимой чертой, и читатель уже никогда не будет в них путаться, хотя их много, много…
И точно так же лирически будут представлены родители Окуджавы, партийные функционеры, юные большевики, соединившиеся для того, чтобы принести миру новое счастье. Только Окуджава, наверное, мог сказать, что молодожены, свято верящие в дело коммунизма, уезжали на учебу в Москву (по путевке партии) на «печальном» поезде. Оркестры и рев толпы, фанатичная вера в светлое будущее, революционная аскеза и непререкаемая чистота душ — все это подается диссонирующим голосом шестидесятника, трогающего струны очень простенькой гитары у себя на московской кухоньке. И крики перестроечной прессы точно так же не коснутся этой грустной стариковской прозы.
У маленького героя книги счастливое детство. Он живет в своем собственном мире, где все прекрасно: родители, друзья, советские курорты, Тбилиси, родственники, угощение, партийные товарищи. Все любят Ванваныча. Изредка он, как Будда Гаутама в аналогичной ситуации, внезапно узнает о существовании бедных и голодных. Это царапает, цепляет, но волшебным образом (в отличие от случая Гаутамы) не разрушает ощущения надежности и цельности мира. Иногда приходится читать о некоей раздвоенности жизни в тридцатые годы. Мол, днем все были ударниками труда и как будто верили в лозунги и газетные передовицы, а по ночам тряслись от страха и ждали арестов. Кто-то, возможно, жил и так. Кто-то просто верил в светлое будущее и никаких арестов не ждал. Кто-то только и ждал, что арестов. Мне кажется, нет универсального настроения, тем более, для такой большой страны. «Что-то такое отражалось в его глазах…» — замечает Окуджава об отце, что-то такое, не сожаление, нет, не понимание, нет… не предчувствие даже… а что-то «такое»… Мальчика заботливо ограждали от забот взрослой жизни. Не то чтобы, опять же, что-то от него скрывали. Просто он был маленький. А потом арестовали отца, и мать внезапно перестала разделять: вот твое, детское, вот мое, взрослое. Их судьбы объединились. Потом арестовали и мать. На этом, собственно, «театр» «упразднили» — произведение заканчивается или, точнее, обрывается.
Маленький Ванваныч перестал быть маленьким. Все началось по-взрослому. Дальше будет еще война (ей посвящены следующие рассказы в книге). Предстоят еще долгая жизнь, большой опыт и продуктивное творчество. Лирический герой, сквозь испытания, беды, радости, сквозь опыт — движется к своей эпохе, к шестидесятым. И из этой эпохи он и станет судить всю свою вселенную: детство, юность и старость. Из этой же эпохи он взглянет на русскую историю (и на грузинский ее отрезок) — девятнадцатый век, тихие маленькие бунтовщики, флигель-адъютанты, красавцы, таланты, поэты, дуэлянты — и так далее…
Шестидесятые. Культ человека. Эпоха гипер-гуманизма. Нет ничего прекраснее отдельного человека — не героя, не поэта даже, не какого-то особенного ударника труда, — а маленького, «рядового», зачастую и слабого, но по-своему прекрасного, по-своему заслуживающего любви. Нет ничего важнее человека. Отдельно взятой личности. Тебя, меня, вон его, вон ее. Выросшие «в толпе», среди демонстраций, а потом в военном строю, — шестидесятники обостренно ощущали ценность единицы.
Иногда стоит вернуться к этому мироощущению. И когда возникнет в этом потребность — у нас всегда, навечно будет Булат Окуджава.
http://krupaspb.ru/piterbook/recenzii/?nn=1702&ord=5&sb=&np=1