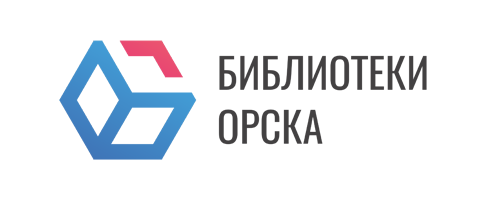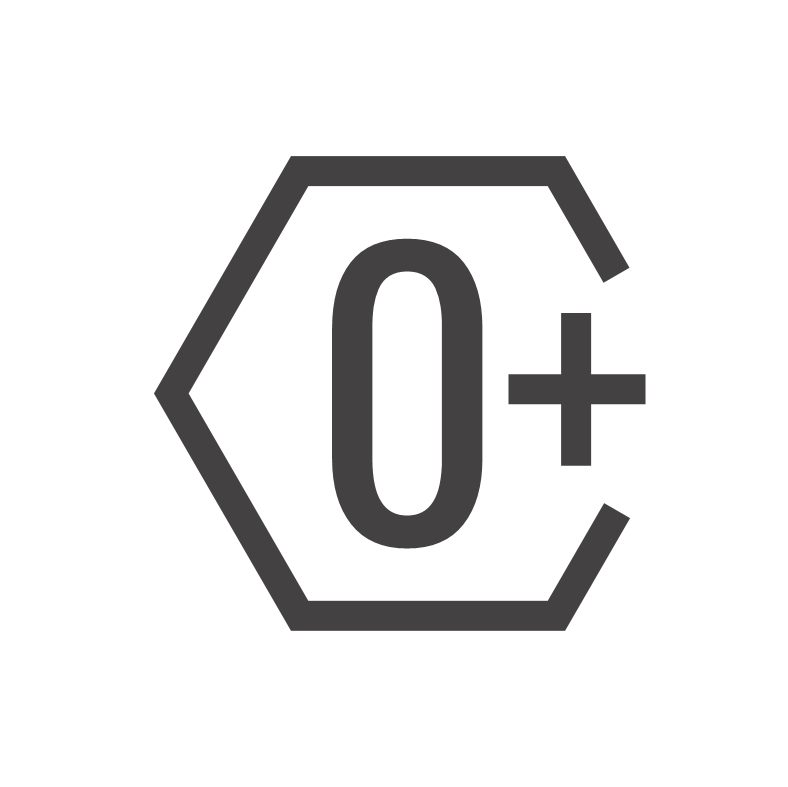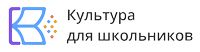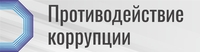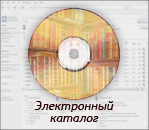Роман Герты Мюллер «Сердце-зверь» (на немецком вышел в 1994 году) можно прочесть для того, чтобы узнать, за что дали Нобелевскую премию по литературе в 2009 году. А можно для того, чтобы почувствовать, как работает память о прошлом, которое не хочется вспоминать.
Роман Герты Мюллер «Сердце-зверь» (на немецком вышел в 1994 году) можно прочесть для того, чтобы узнать, за что дали Нобелевскую премию по литературе в 2009 году. А можно для того, чтобы почувствовать, как работает память о прошлом, которое не хочется вспоминать.На рубеже восьмидесятых — девяностых годов прошлого века казалось, что мы, жители распавшегося Союза, хотим понять, что нам делать с нашим прошлым. Спустя двадцать лет удивительным образом проблема отошла на задний план, в то самое прошлое, которое теперь вроде никто и не ворошит. И дело не в том, что всё уже опубликовали и прочли, а в том, что советская история не стала предметом художественного переосмысления для современной литературы, оставшись предметом почти исключительно литературы «возвращенной». Тем интереснее смотреть, как это делают другие.
В 2008 году на русском языке вышли романы венгерского писателя Петера Эстерхази «Небесная гармония» и «Исправленное издание». Второй из них Эстерхази пришлось написать, когда он узнал, что его отец был осведомителем в госбезопасности, и принялся изучать архивы. Выход «Исправленного издания» стал событием для всей Венгрии, переросшим рамки литературной сенсации, а поступок писателя называли героическим.
У Герты Мюллер, до 1987 года жившей в Румынии, не было подобного крушения иллюзий, и ее опыт жизни при режиме Чаушеску с самого начала стал основной темой ее творчества. «Сердце-зверь» — первый роман Мюллер на русском языке, до этого публиковались лишь отдельные небольшие рассказы. Первый переводчик Мюллер на русский Марк Белорусец называет ее стихи, прозу, эссе «текстом», считая, что видовые различия здесь не важны. Действительно, Мюллер в прозе пользуется тем же сложным метафорическим языком, который, судя по всему, свойственен и ее стихам, и ее эссе. Вот лишь один пример. Повествование в «Сердце-звере» закольцовано фразой «Когда молчим, мы неприятны <…> когда говорим, — смешны», которую произносит один из героев в сцене, начинающей и завершающей роман. Эта же фраза, такая важная для центральной темы книги — проблемы говорения, проговаривания вслух, переноса интимного воспоминания в область коллективной памяти, — вынесена в заголовок эссе Мюллер («В молчании мы неприятны, а когда заговорим — смешны». «Иностранная литература», 2009, №10): «Молчание — это не пауза, а вещь в себе. <…> Очередь любой фразы подходит тогда, когда предыдущей больше нет. При молчании же все приходит сразу, все там внутри зависает: и то, что долгое время не высказывалось, и то, что никогда не будет высказано. Это — замкнутое в себе, устойчивое состояние. А говорение — нить, которая сама себя перекусывает, ее нужно каждый раз снова связывать».
«Сердце-зверь» — повествование от первого лица, в котором без труда угадываются автобиографические черты: учеба в институте, работа на фабрике (переводчицей технических спецификаций для гидравлических машин), увольнение, преследования, эмиграция в Германию. Рассказчица, имени которой мы так и не узнаем, говорит о себе либо «я», либо «кто-то», подчеркивая коллективность жизни в студенческом общежитии и единогласие толпы, поднимающей руку на собрании; либо и вовсе «ребенок», если речь идет о детстве. Совершенно очевидно, что личный опыт здесь играет служебную роль, служит материалом для более широких и, что важно, художественных, а не публицистических обобщений.
Поначалу метафорические описания деревни и города, жизни в комнате общежития, поисков деревенской девушкой подходящего мужчины, перечисление примет социалистической действительности, попытки описать превалирующее чувство страха складываются в герметичный монолог. И кажется, что автор все время решает задачу поиска новых слов, еще не замутненных грузом ассоциаций и смысла. Однако то и дело через богатую образность прорываются недвусмысленные фразы и описания: «в той стране они жили в страхе», «все жили мыслью о бегстве»; над фабрикой висит лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», двое из друзей героини пишут стихи, а третий фотографирует автобусы с заключенными, — сложно найти более подходящее хобби для любителей тамиздата, за которыми следят органы. Власть все время обозначается только как «диктатор» и его «охранники» — и вдруг в какой-то момент приветствие «чао» звучит для одного из героев как первый слог от «Чаушеску», и это переключение очень неожиданно. «Весь город кишит блохами» — это уже и метафорический план, и реальный одновременно. Или «охранники», которые едят зеленые сливы: с одной стороны, яркая характеристика ничего не понимающего юного деревенского дурня, который все еще, как в детстве, таскает незрелые фрукты; с другой — тотальная примета «топтуна», зловещий знак. Или рабочие на бойне, которые пьют еще теплую кровь забитых животных — бытовая подробность, маркирующая неясные, но зловещие смыслы.
Этому двуязычию есть еще одно понятное объяснение — двуязычие в буквальном смысле. Немецкий, родной язык Мюллер и ее героев, служит в определенном смысле отдушиной: на немецком можно сказать то, для чего в румынском просто нет слов. Например, о птице жулан, чьему голосу не могут научиться подражать охотники, и поэтому ее нельзя убить, как других. Жулан, или девятисмертник, не переводится на румынский («Но я знала только немецкое название, которое и перевела для Терезы — девятисмертник, а видовое название — жулан. Ни в одном румынском словаре слова «девятисмертник» я не нашла»). И конечно, символическая история о птице, которую нельзя убить, звучит песней о свободе. И конечно, представители органов разговаривают на румынском, казенном, прямолинейном, шаблонном языке: «Читать и писать в стране умеет всякий. Если уж очень хочется, то и стихи всякий может писать, причем не состоя в антигосударственной преступной организации. Наше искусство наш народ творит для себя сам, наша страна не нуждается в какой-то кучке отщепенцев. Раз пишете по-немецки, так и езжайте в Германию, может, там, в гнилом буржуазном болоте, почувствуете себя дома. Я-то думал, вы способны образумиться».
В результате всего лишь языковыми средствами создается двухуровневая картина мира, и он воссоздается дважды — на уровне интимного воспоминания и на уровне некоей исторической реальности, объективность которой, естественно, тоже условна, поскольку это реальность воспоминаний — коллективной памяти.
Для коллективной памяти важны две темы: страх и личная ответственность, но только знакомое «мы поименно вспомним всех, кто поднял руку» здесь переосмыслено и звучит как «только сумасшедшие не подняли бы руку в большом актовом зале. Свой страх они обменяли на безумие». А героиня-рассказчица вовсе не безумна. Еще один автобиографический мотив — отец-эсэсовец, который «в чужих городах и странах разводил кладбища, а потом вернулся домой и разводит огород». Но «разве кто-нибудь на свете выбирает себе отца?» — и эту ношу тоже придется носить с собой, как и предательство подруги, как и собственное малодушие.
Что заставляет героиню рассказывать то, что она рассказывает? Точнее, каковы обстоятельства, при которых она это делает? Все в той же первой/последней сцене: «Мы сидели на полу, перед теми фотографиями, уже очень долго. У меня затекли ноги. Пытаться выразить словами то, что у тебя на сердце, все равно как втаптывать траву в землю. Но и молчать не легче». Катализатором личных воспоминаний становится общее прошлое, а личные интимные переживания превращаются в слова, становясь достоянием других людей, только с привлечением некоего общего контекста. В книге французского социолога Мориса Хальбвакса «Социальные рамки памяти» этот механизм описан так: «Чаще всего я вспоминаю о чем-то потому, что к этому побуждают меня другие, что их память помогает моей памяти, а моя память опирается на их память. <…> В таком смысле получается, что существует коллективная память и индивидуальные рамки памяти, и наше индивидуальное мышление способно к воспоминанию постольку, поскольку оно заключено в этих рамках и участвует в этой памяти». Нарочито избегая шаблонов языка, активно пользуясь неологизмами и яркими метафорами, Мюллер не пытается индивидуализировать свой опыт, а участвует в формировании коллективной памяти, предлагая ей свои слова.
И еще одна маленькая деталь к вопросу о коллективной памяти и общем контексте. В романе Мюллер среди прочих примет социалистической действительности: постоянного повсеместного воровства, всеобщего доносительства — встречаются и такие безобидные и даже смешные подробности, как толстые хлопчатобумажные «чулки-патент» и тонкие, как паутинка, колготки (предмет мечтания), коробочки с сажей и зубочистка, царапающая глаза вместо туши для ресниц, апельсины, джинсы, мягкие игрушки и телевизоры как часть заграничной жизни. Перебирание подобных деталей в нашей памяти превратилось в веселый ностальгический балаган. Веселье, пожалуй, единственная краска, на месте которой в эмоциональной палитре романа — зияние, отсутствие, пустота.
http://www.openspace.ru/literature/events/details/19614/?expand=yes#expand
«Сердце-зверь» — повествование от первого лица, в котором без труда угадываются автобиографические черты: учеба в институте, работа на фабрике (переводчицей технических спецификаций для гидравлических машин), увольнение, преследования, эмиграция в Германию. Рассказчица, имени которой мы так и не узнаем, говорит о себе либо «я», либо «кто-то», подчеркивая коллективность жизни в студенческом общежитии и единогласие толпы, поднимающей руку на собрании; либо и вовсе «ребенок», если речь идет о детстве. Совершенно очевидно, что личный опыт здесь играет служебную роль, служит материалом для более широких и, что важно, художественных, а не публицистических обобщений.
Поначалу метафорические описания деревни и города, жизни в комнате общежития, поисков деревенской девушкой подходящего мужчины, перечисление примет социалистической действительности, попытки описать превалирующее чувство страха складываются в герметичный монолог. И кажется, что автор все время решает задачу поиска новых слов, еще не замутненных грузом ассоциаций и смысла. Однако то и дело через богатую образность прорываются недвусмысленные фразы и описания: «в той стране они жили в страхе», «все жили мыслью о бегстве»; над фабрикой висит лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», двое из друзей героини пишут стихи, а третий фотографирует автобусы с заключенными, — сложно найти более подходящее хобби для любителей тамиздата, за которыми следят органы. Власть все время обозначается только как «диктатор» и его «охранники» — и вдруг в какой-то момент приветствие «чао» звучит для одного из героев как первый слог от «Чаушеску», и это переключение очень неожиданно. «Весь город кишит блохами» — это уже и метафорический план, и реальный одновременно. Или «охранники», которые едят зеленые сливы: с одной стороны, яркая характеристика ничего не понимающего юного деревенского дурня, который все еще, как в детстве, таскает незрелые фрукты; с другой — тотальная примета «топтуна», зловещий знак. Или рабочие на бойне, которые пьют еще теплую кровь забитых животных — бытовая подробность, маркирующая неясные, но зловещие смыслы.
Этому двуязычию есть еще одно понятное объяснение — двуязычие в буквальном смысле. Немецкий, родной язык Мюллер и ее героев, служит в определенном смысле отдушиной: на немецком можно сказать то, для чего в румынском просто нет слов. Например, о птице жулан, чьему голосу не могут научиться подражать охотники, и поэтому ее нельзя убить, как других. Жулан, или девятисмертник, не переводится на румынский («Но я знала только немецкое название, которое и перевела для Терезы — девятисмертник, а видовое название — жулан. Ни в одном румынском словаре слова «девятисмертник» я не нашла»). И конечно, символическая история о птице, которую нельзя убить, звучит песней о свободе. И конечно, представители органов разговаривают на румынском, казенном, прямолинейном, шаблонном языке: «Читать и писать в стране умеет всякий. Если уж очень хочется, то и стихи всякий может писать, причем не состоя в антигосударственной преступной организации. Наше искусство наш народ творит для себя сам, наша страна не нуждается в какой-то кучке отщепенцев. Раз пишете по-немецки, так и езжайте в Германию, может, там, в гнилом буржуазном болоте, почувствуете себя дома. Я-то думал, вы способны образумиться».
В результате всего лишь языковыми средствами создается двухуровневая картина мира, и он воссоздается дважды — на уровне интимного воспоминания и на уровне некоей исторической реальности, объективность которой, естественно, тоже условна, поскольку это реальность воспоминаний — коллективной памяти.
Для коллективной памяти важны две темы: страх и личная ответственность, но только знакомое «мы поименно вспомним всех, кто поднял руку» здесь переосмыслено и звучит как «только сумасшедшие не подняли бы руку в большом актовом зале. Свой страх они обменяли на безумие». А героиня-рассказчица вовсе не безумна. Еще один автобиографический мотив — отец-эсэсовец, который «в чужих городах и странах разводил кладбища, а потом вернулся домой и разводит огород». Но «разве кто-нибудь на свете выбирает себе отца?» — и эту ношу тоже придется носить с собой, как и предательство подруги, как и собственное малодушие.
Что заставляет героиню рассказывать то, что она рассказывает? Точнее, каковы обстоятельства, при которых она это делает? Все в той же первой/последней сцене: «Мы сидели на полу, перед теми фотографиями, уже очень долго. У меня затекли ноги. Пытаться выразить словами то, что у тебя на сердце, все равно как втаптывать траву в землю. Но и молчать не легче». Катализатором личных воспоминаний становится общее прошлое, а личные интимные переживания превращаются в слова, становясь достоянием других людей, только с привлечением некоего общего контекста. В книге французского социолога Мориса Хальбвакса «Социальные рамки памяти» этот механизм описан так: «Чаще всего я вспоминаю о чем-то потому, что к этому побуждают меня другие, что их память помогает моей памяти, а моя память опирается на их память. <…> В таком смысле получается, что существует коллективная память и индивидуальные рамки памяти, и наше индивидуальное мышление способно к воспоминанию постольку, поскольку оно заключено в этих рамках и участвует в этой памяти». Нарочито избегая шаблонов языка, активно пользуясь неологизмами и яркими метафорами, Мюллер не пытается индивидуализировать свой опыт, а участвует в формировании коллективной памяти, предлагая ей свои слова.
И еще одна маленькая деталь к вопросу о коллективной памяти и общем контексте. В романе Мюллер среди прочих примет социалистической действительности: постоянного повсеместного воровства, всеобщего доносительства — встречаются и такие безобидные и даже смешные подробности, как толстые хлопчатобумажные «чулки-патент» и тонкие, как паутинка, колготки (предмет мечтания), коробочки с сажей и зубочистка, царапающая глаза вместо туши для ресниц, апельсины, джинсы, мягкие игрушки и телевизоры как часть заграничной жизни. Перебирание подобных деталей в нашей памяти превратилось в веселый ностальгический балаган. Веселье, пожалуй, единственная краска, на месте которой в эмоциональной палитре романа — зияние, отсутствие, пустота.
http://www.openspace.ru/literature/events/details/19614/?expand=yes#expand